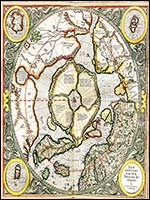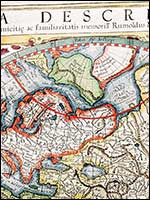Пища Ра
Древняя цивилизация славяно-ариев – возврат из забвения
Хронология
|
Главная : Выборы : Зарубки : О сайте : Новости : Хронология : Книги : Объявления : Публикации : Ссылки
|
|
3. Археологические свидетельства древней истории
«Жизнь зарождается автоматически на всех планетах, где существуют
необходимые и достаточные условия. И таких планет – миллиарды…» Дивный остров счастливых людей
В.Н. Дёмин Гиперборея – слово, придуманное эллинами. Чтобы как-то назвать обитателей Крайнего Севера, чьи автохтонные варварские имена ими не признавались, они прозвали их в соответствии с воображаемой границей: «за северным ветром – Бореем». Греческое «гипер» переводится по-разному: «над», «за», «выше», «по ту сторону» – выбирай, что нравится, но со временем прижилось «за Бореем». Гипер + Борей = гипербореи, то есть, «те, кто живёт за Бореем – северным ветром». Отсюда и название северной страны – Гиперборея. Распределение стран света «по ветрам» во все времена – дело вполне обычное. Кстати, по древнеримской традиции северный ветер именовался Аквилоном. О жителях Гипербореи сообщали многие античные авторы. Один из самых авторитетных учёных Древнего мира – Плиний Старший, писал о гиперборейцах, как о реальном древнем народе, жившем у полярного круга и генетически связанном с эллинами через культ Аполлона Гиперборейского. В «Естественной истории» (IV, 26) дословно говорится: «За этими [Рипейскими] горами, по ту сторону Аквилона, счастливый народ (если можно этому верить), который называется гиперборейцами, достигает весьма преклонных лет и прославлен чудесными легендами. Верят, что там находятся петли мира и крайние пределы обращения светил. Солнце светит там в течение полугода, и это только один день, когда солнце не скрывается (как о том думали бы несведущие) от весеннего равноденствия до осеннего, светила там восходят только однажды в год при летнем солнцестоянии, а заходят только при зимнем. Страна эта находится вся на солнце, с благодатным климатом и лишена всякого вредного ветра. Домами для этих жителей являются рощи, леса; культ Богов справляется отдельными людьми и всем обществом; там неизвестны раздоры и всякие болезни. Смерть приходит там только от пресыщения жизнью... Нельзя сомневаться в существовании этого народа [курсив мой. – В.Д.]». Даже из этого небольшого отрывка из «Естественной истории» нетрудно составить ясное представление о Гиперборее. Первое – и это самое главное – она размещалась там, где солнце может не заходить по нескольку месяцев. Другими словами, речь может идти только о приполярных областях, тех, что в русском фольклоре именовались Подсолнечным царством. Другое важное обстоятельство: климат на севере Евразии в те времена был совсем другим. Это подтверждают и новейшие комплексные исследования, проведённые недавно на севере Шотландии по международной программе. Они показали, что ещё четыре тысячи лет назад климат на данной широте был сравним со средиземноморским и здесь водилось большое количество теплолюбивых животных. Впрочем, ещё ранее российскими океанографами и палеонтологами было установлено, что в период с 30 по 15 тысячелетие до н.э. климат Арктики был достаточно мягким, а Северный Ледовитый океан был тёплым, несмотря на присутствие ледников на континенте. Академик Алексей Фёдорович Трешников пришёл к выводу, что мощные горные образования – хребты Ломоносова и Менделеева – сравнительно недавно (10-20 тысяч лет тому назад) возвышались над поверхностью Ледовитого океана, который сам тогда – в силу мягкого климата – не был полностью скован льдом. Примерно к таким же выводам и хронологическим рамкам пришли американские и канадские учёные. По их мнению, во время Висконсинского оледенения в центре Северного Ледовитого океана существовала зона умеренного климата, благоприятная для такой флоры и фауны, которые не могли существовать на приполярных и заполярных территориях Северной Америки. В русле тех же представлений Пётр Владимирович Боярский – начальник Морской арктической комплексной экспедиции – успешно обосновывает гипотезу о Грумантском мосте, некогда соединявшем многие острова и архипелаги Ледовитого океана. Убедительным подтверждением неоспоримого факта благоприятной климатической ситуации, существовавшей в прошлом, служат ежегодные миграции перелётных птиц на Север – генетически запрограммированная память о тёплой прародине. Косвенным свидетельством в пользу существования в северных широтах древней высокоразвитой цивилизации является также находящиеся здесь повсюду мощные каменные сооружения и другие мегалитические памятники: знаменитый кромлех Стонхенджа в Англии, аллея менгиров во французской Бретани, каменные лабиринты Скандинавии, Кольского полуострова и Соловецких островов. Летом 1997 г. орнитологическая экспедиция открыла подобный лабиринт на побережье Новой Земли. Диаметр каменной спирали около 10 метров, и выложена она из сланцевых плит весом 10-15 кг. Это исключительно важная находка: до сих пор лабиринты на такой географической широте никогда и никем не описывались.
Собственно, известны две карты Меркатора: одна принадлежит самому знаменитому картографу всех времён и народов Герарду Меркатору и датируется 1569 г., вторая издана его сыном Рудольфом в 1595 г., который себе авторства не приписывал, а опирался на авторитет отца. На обеих картах Гиперборея изображена достаточно подробно в виде архипелага из четырёх огромных островов, отделённых друг от друга полноводными реками (что вообще даёт основание считать Гиперборею-Арктиду материком). Но на последней карте, помимо самой Гипербореи, подробно выписаны ещё и Северные побережья Евразии и Америки. Именно это и даёт основание для аргументов в пользу подлинности самой карты, точнее – тех, не дошедших до нас источников, на основе которых она составлена. А в том, что такие картографические документы держали в руках отец и сын Меркаторы, сомневаться не приходится. На их карте изображён пролив между Азией и Америкой, открытый лишь в 1648 г. русским казаком Семёном Дежнёвым, но весть о сделанном открытии дошла до Европы не скоро. В 1728 г. пролив был вновь пройден русской экспедицией во главе с Вигусом Берингом, а впоследствии назван именем прославленного командора. Между прочим, известно, что, держа курс на Север, Беринг намеревался открыть в том числе и Гиперборею, известную ему по классическим первоисточникам. На основе сделанных открытий, пролив был картографирован в 1732 г. и лишь после этого стал по-настоящему известен во всём мире. Откуда же он тогда попал на карту Меркатора? Быть может, из того же источника, откуда почерпнул свои знания Колумб, отправлявшийся в обессмертившее его плавание отнюдь не по наитию, а располагая сведениями, добытыми из секретных архивов. Ведь стала в XX в. достоянием учёных и читающей публики карта, принадлежавшая некогда турецкому адмиралу Пири Рейсу: на ней изображена не только Южная Америка в границах, ещё не открытых европейцами, но и Антарктида. По единодушному мнению экспертов-археографов, уникальная карта является подлинным документом и датируется 1513 г. Пири Рейс жил в эпоху Великих географических открытий и прославился тем, что наголову разгромил объединённый венецианский флот, до этого считавшийся непобедимым. Правда, кончил прославленный флотоводец очень печально: его обвинили в получении большой взятки от противника и по приказу султана отрубили ему голову. Хотя сам адмирал далее Средиземного моря никогда не плавал, его конкретные картографические знания намного опередили открытия не только Колумба, Васко да Гамы, Магеллана и Америго Неспуччи, но и открытие Южного материка, сделанное русскими мореплавателями Беллинсгаузеном и Лазаревым только в 1820 г.
«Неверный по имени Коломбо, генуэзец, открыл эти земли (Имеется в виду Америка. – В.Д.). В руки названного Коломбо попала одна книга, в которой он прочитал, что на краю Западного моря, далеко на Западе, есть берега и острова. Там находили всевозможные металлы и драгоценные камни. Вышеназванный Коломбо долго изучал эту книгу...» К сожалению, северная часть карты Пири Рейса оказалась утраченной. Поэтому трудно судить о его познаниях, касающихся Гипербореи. Зато Северный материк хорошо прописан другими картографами XVI в., и, в частности, французским математиком, астрономом и географом Оронцием Финеем. На его карте 1531 г. изображена не только Антарктида, но и Гиперборея. Столь же подробно и выразительно представлена Гиперборея на одной из испанских карт конца XVI в., хранящейся в Мадридской национальной библиотеке. На карте Меркатора, в соответствии с современными представлениями, изображён и Кольский полуостров. «Экая невидаль!» – скажет кто-нибудь. А вот и нет! В XVI в. географические знания о Северной Европе и соответственно её картографические изображения были более чем приблизительны. В «Истории северных народов» и знаменитой «Морской [северной] карте», составленной в первой трети XVI в. шведским учёным Олаусом Магнусом, Кольский полуостров описан и изображён, как сомкнутый обоими концами с материком перешеек между Ледовитым океаном и Белым морем, а последнее, в свою очередь, представлено, как внутреннее озеро и помещено чуть ли не на место Ладоги. Так что, поклонимся в очередной раз великому Меркатору и его сыну. Страбон в своей знаменитой «Географии» именует полярную оконечность Земли Туле (Тула). Судя по всему, это одно из автохтонных названий Гипербореи, ибо Туле как раз и занимает то место, где, по расчётам, должна быть Гиперборея-Арктида (точнее, Туле – одна из оконечностей Арктиды). По Страбону, эти земли расположены в шести днях плавания на север от Британии, и море там студнеобразное, напоминающее тело одной из разновидностей медуз – «морского лёгкого». Похоже, данный образ потребовался для передачи впечатления от шуги – кашицы из рыхлого льда перед замерзанием, которая помешала эллинскому мореплавателю Пифею (именно на него ссылается Страбон) проникнуть дальше на Север. Одно из названий Гипербореи – Ultima Tule («самый далёкий Туле»; иногда переводят – «крайний Туле»), с таким эпитетом утвердилось имя древней северной земли в мировой истории, географии и поэзии. Устойчивое латинское словосочетание, превратившееся в крылатое выражение, введено в оборот Вергилием в «Георгиках» (I. 30).
Через «ф» – Фула – обозначается загадочная северная земля и в последнем переводе «Географии» Страбона; в остальных случаях чаще пишется Туле (Тула). Впрочем, сам отец европейской географии не смог сообщить о далёкой полнощной стране ничего больше, кроме того, что смог позаимствовать из утраченных ныне сообщений античного мореплавателя Пифея. Тот первым, обогнув Британию, приблизился к кромке ледяной шуги, не позволившей ему достичь обетованного северного края. Начиная со II в. н.э. в античном мире получил широкое распространение роман Антония Диогена о путешествиях Диния, который после долгих скитаний достиг Ледовитого (Скифского) океана и расположенного в нём острова Туле (до нашего времени роман дошёл лишь в византийском пересказе). «Диний отправился путешествовать по ту сторону Тулы... Он видел то, что доказывают и учёные, занимающиеся наблюдением за светилами. Например, что есть люди, которые могут жить в самых далёких арктических пределах, где ночь иногда продолжается целый месяц; бывает она и короче, и длиннее месяца, и шесть месяцев, но не больше года. Не только ночь растягивается, но соразмерно и день согласуется с ночью. Самым невероятным было то, что, двинувшись к северу в сторону луны, видя в ней некую более чистую землю, они достигли её, а достигши, узрели там такие чудеса, которые во многом превзошли все прежние фантастические истории...» Но были и другие источники, к сожалению, также не дошедшие до наших дней. Об их существовании, однако, свидетельствуют фрагменты более удачливых авторов: их сочинения не канули в Лету, напротив, послужили исходной базой для древних и средневековых карт, где остров Туле изображался либо невообразимо большим, либо неправдоподобно маленьким, как, например, на карте, составленной на основе сведений древнегреческого географа Эратосфена Киренского (ок. 276-194 гг. до н.э.). В средние века древние сведения продолжали подкрепляться теми же полярными реалиями.
В знаменитой книге крупнейшего византийского историка VI в. Прокопия Кесарийского «Война с готами» также содержится подробнейшее описание «острова» Туле (Фуле): «Этот остров Фула очень большой. Полагают, что он в десять раз больше Британии (Ирландии). Он лежит от неё далеко на север. На этом острове земля по большей части пустынна, в обитаемой же части живут тринадцать племён, очень многолюдных, и у каждого племени свой царь. Здесь каждый год происходит чудесное явление. Около летнего солнцеповорота в течение приблизительно сорока дней солнце никуда не заходит, но в течение этого времени непрерывно сияет над землёй. Но месяцев через шесть (не меньше) после этого, около зимнего солнцеповорота, дней сорок солнце совсем не показывается над этим островом, и он погружён в непрерывную ночь (Точнейшее описание полярных дня и ночи, к примеру, на широте северной оконечности Кольского полуострова или Новой Земли. – В.Д.). Это время живущие здесь люди проводят в полном унынии, так как они не имеют никакой возможности тогда сноситься друг с другом. Лично мне отправиться на этот остров, чтобы своими глазами увидать то, что мне рассказывали, хоть я и очень старался, никак не удалось...» Далее Прокопий подробно описывает образ жизни одного из племён, живущих в Туле, – скритифинов (другие авторы, например, Иордан, именуют их скререфеннами). В последней части древнего этнонима недвусмысленно прочитывается современное название народа – финны. Как и другие северные племена, древние тулейцы не носят обычной одежды и обуви, не пьют вина, не добывают себе никакого пропитания посредством возделывания земли. Они не пашут земли, мужчины и женщины заняты только охотой.
Кровавый обычай человеческих жертвоприношений долгое время сохранялся по всему миру, особенно у народов, не затронутых цивилизацией. Так, вплоть до испано-португальских завоеваний и последующей англофранцузской колонизации он практиковался среди индейцев обеих Америк. В далёком прошлом, в эпоху глобальных геофизических и климатических катаклизмов, прапредки индейцев мигрировали из Туле на юг, заняв и освоив постепенно, в течение многих веков и тысячелетий, обширные территории Северной, Центральной и Южной Америки. Память о древней прародине долгое время сохранялась в некоторых принесённых с Севера названиях. Так, столица древнего центральноамериканского государства тольтеков именовалась, как и сама прародина, – Тула. Да и сам этноним тольтеки происходит от того же корня. Тольтекская столица (на территории современной Мексики) просуществовала до XII в. н.э. Предположение о лексической и смысловой сопряжённости этнонима тольтеков и названия их главного города с легендарной приполярной территорией Туле в своё время было высказано одним из основоположников современного традиционализма Рене Геноном (1886-1951) в его знаменитом эссе «Атлантида и Гиперборея». Тольтекская Тула с её реставрированными памятниками (включая знаменитую пирамиду Кецалькоатля) – один из известнейших архитектурно-археологичсских комплексов Нового Света. Однако, в данном случае нас интересует этимология тольтекского названия города:
Но если даже остановиться на последнем возможном объяснении – нельзя отрицать, что сами тольтеки возникли не на пустом месте и не вдруг – у них были предки и прапредки, в словарном запасе которых непременно были слова с корневой основой «тул[а]». Кроме того, на месте разрушенной столицы государства тольтеков ранее существовал легендарный город индейцев науа – Толлан (или Тольян), чьё название созвучно лексеме «тул». И эту цепочку поколений, тянущуюся вглубь веков, опять-таки можно проследить до начала распада единой этнолингвистической общности всех народов и языков мира (Вопрос о моногенезе языков и культур мира неоднократно затрагивался мной в предыдущих публикациях и, в частности, в книгах «Тайны русского народа» и «Загадки Русского Севера». К ним и отсылаю всех, кого заинтересует данная проблема. – Прим. автора.). А что общего, скажем, между названиями русского города Тула и морского животного «тюлень»? Сразу видно – общий корень! Но, почему?
Есть и другие русские слова с этим корнем: «туловище» – тело без учёта головы, рук и ног (более чем фундаментальное понятие); «туло» – колчан в виде трубки, где хранятся стрелы (отсюда – «втулка»). Производными от той же корневой основы в русском языке являются слова: «тыл» – затылок и вообще – задняя часть чего-либо, «тло» – основание, дно (в современном языке сохранилось устойчивое словосочетание «дотла»); «тлеть» – гнить или чуть заметно гореть и т.д. (Интересно, что в финском языке слово tuli означает «огонь», то есть, как и русское «тлеть», связано с горением). Тем самым имя города Тула имеет богатейшее смысловое содержание. Топонимы с корнем «тул» вообще имеют чрезвычайное распространение: города Тулон и Тулуза во Франции, Тульча – в Румынии, Тульчин – на Украине, Тулымский Камень (хребет) – на Северном Урале, река в Мурманской области – Тулома, озеро в Карелии – Тулос. И так далее – вплоть до самоназвания одного из дравидских народов в Индии – тулу. О далёкой северной островной земле Тулия или Тули, наперебой сообщали и средневековые арабские авторы – географы, историки, космографы. Так, философ Аль Кинди (ум. в 961/962 г.) писал об огромном острове Тулия и большом городе на нём с тем же названием, расположенных «в северном конце обитаемой земли, под северным полюсом». Хотя упомянутая страна и окружена «великим морем», дальше неё плыть уже некуда – никакой другой земли в Северном (Ледяном) океане больше нет. Космограф Димешки, развивая данные сведения, подчёркивает, что земля Тулия населена славянами. Сказанное перекликается с известиями об Острове русов других арабских путешественников и купцов, побывавших на Руси в основном ещё во времена язычества. Почти все они в один голос утверждали, что русские (и славяне) обитают на каком-то далёком острове. Данный факт, кстати, получил отражение в русских средневековых «Космографиях» и прилагаемых к ним картах, где территория России, вплоть до XVIII в. изображалась наполовину, как архипелаг, острова которого вытянуты полукругом. Архетип Острова широко распространён в мифологиях различных народов мира. Так, в карело-финских рунах, объединённых и литературно обработанных Элиасом Лёнротом в стройный текст «Калевалы», Остров (по-фински – Сара) – это далёкая, забытая и во многом незнаемая северная прародина, откуда ведут своё подлинное происхождение многие герои. Например, одно из прозвищ Лёмминкяйнена – Сарилайнен (что переводится, как Островитянин). Точно так же и Северная Страна Тьмы – Похъёла, – где разворачиваются многие события «Калевалы», имеет второе, более архаичное название – Сариола. Гиперборея столь же знаменита, как и её географическая сестра – Атлантида. Обе – звенья одной цепи, участь обеих одинакова: они погибли в результате мощного природного катаклизма. Но какие бы катаклизмы ни сотрясали Землю, всегда остаются неуничтожимые следы. Во-первых, чудом сохранившиеся свидетельства античных источников – разрозненные, противоречивые, но нисколько не утратившие своей ценности. Во-вторых, материальные памятники (точнее – то, что от них осталось по прошествии тысячелетий), сохранившиеся по периферии и на возвышенностях погрузившегося на дно материка – Арктиды-Гипербореи.
Античный мир создал более обобщённый образ – процветающие Острова Блаженных, царство любви, согласия и благоденствия, расположенное в Гиперборее, в северной части Океана, который по античным представлениям являлся бескрайней рекой, опоясавшей Землю. Острова Блаженных – Твердыня Крона и Царство Света, где, согласно Пиндару, «под солнцем вечно дни – как ночи, и ночи – как дни»:
Радаманф (Радамант), сын Зевса и Европы – один из судей, решающих, кого допустить или не допустить после смерти в Северный рай, так как, согласно позднейшим представлениям, Острова Блаженных, сделались ещё и прибежищем душ умерших. Впоследствии Острова Блаженных стали даже ассоциироваться и с Подземным царством Аида, где, несмотря на вселявшийся живым ужас, продолжали действовать законы справедливости: в подземный счастливый мир попадали души только достойных людей, которые устанавливали между собой естественную гармонию. То, что царство Аида находится не где-нибудь, а далеко на Севере, видно из Гомеровой «Одиссеи». Встреча главного героя поэмы с душами умерших происходит в царстве полярной ночи. Для общения с потусторонним миром Одиссею не пришлось спускаться ни в какие подземелья. Чтобы вызвать для разговора души умерших, нужно, оказывается, выкопать яму – длиной и шириной в локоть (но не где попало, а на краю земли и побережья океана, надо полагать, Ледовитого), совершить возлияние мёдом, вином и водой, а спустя некоторое время принести в жертву бесплодную корову и чёрного барана. Вот души и слетятся из-под земли, как мухи на сладкое. Детали эти вообще-то не очень существенны для рассматриваемой темы. Важно одно – всё описываемое происходит на Севере. Воспоминания о счастливом прошлом индоевропейцев и о далёкой северной прародине сохранились в священной книге древних иранцев «Авесте» и соответствующих главах величественной эпической поэмы Фирдоуси «Шахнаме». Здесь рассказывается о благословенном правителе Джемшиде (в «Авесте» это первопредок Йима), во время семисотлетнего царствования которого на Земле наступил Золотой век:
Другое название Страны загробного блаженства и счастья, перекочевавшее в средневековую, а затем и в современную культуру, – Элизиум или Елисейские поля. На фундаменте этих архаичных представлений, в конечном счёте, сформировалось и христианское понятие рая. Другими словами, подлинные истоки этого фундаментального представления находятся на Русском Севере. Но вначале был северный остров, поименованный в древнеиндийской мифологии Шветадвипа. В «Рамаяне» – великом индийском эпосе, переполненном реминисценциями, так описывается блаженный край, где живут люди, не ведающие ни бед, ни забот: «Здесь находится великий Белый Остров (Шветадвипа) вблизи Млечного (Ледовитого) океана (Кширода), где обитают великие, могучие люди, прекрасные, как лунный свет. Они стройны и плечисты, наделены великой, как физической, так и духовной силой, и голос их подобен грому...» В «Махабхарате», в книге «Нараяния», также подробнейшим образом описывается светозарная Страна счастья – Шветадвипа (Белый Остров) «на севере Молочного моря», где живут «люди светлые, сияющие, подобно месяцу». В русском народном мировоззрении данная мифологема Страны всеобщего счастья и индивидуального блаженства известна, как апокрифические Макарейские (Макарийские) острова (что, собственно, является греческим эквивалентом Островов Блаженных: makarios означает «блаженный», «счастливый»):
Итак, Гиперборея не просто социокультурный феномен. Гиперборея – это ещё и мировоззрение. Можно даже сказать – философия. Именно гиперборейское идейное наследие в преломлённом и символизированном виде дошло до наших дней в виде мифологемы Золотого века. Философия Золотого века утрачена вроде бы навсегда. И, тем не менее, она едва ли не генетически сохранилась в основных своих чаяниях и надеждах на лучшее будущее в памяти поколений и каждого отдельно взятого человека. Золотой век – эпоха справедливости, благоденствия и процветания первобытных людей, живших в мире и достатке, не знавших голода и болезней. Античные авторы однозначно связывали «золотое время» человеческой истории с северной Гипербореей и гиперборейцами – сильными, счастливыми, не ведавшими невзгод и болезней. Гиперборейцы – потомки титанов, свидетели и участники титаномахии. На это прямо указывают античные авторы: «Гиперборейцы были титанического происхождения... Они взросли из крови бывших прежде титанов». Вспомним, море вблизи Гипербореи именовалось Кронидским, по имени главы «партии титанов» Крона – отца Зевса. Да и сам Крон, если отвлечься от поздней проолимпийской версии о низвержении в Тартар, продолжал властвовать на Островах Блаженных, расположенных именно на широте Гипербореи и, скорее всего, просто тождественных ей. Жизнь на Островах Блаженных, как она представлялась и описывалась античными авторами, почти полностью совпадала с описаниями жизни гиперборейцев и мало чем отличалась от рая земного. В память о Золотом веке и царстве счастья и добра, справедливости и изобилия справлялись самые весёлые праздники древности – дионисии у греков и сатурналии у римлян. Всё необузданное веселье рождественских карнавалов, святок, ряжения и колядования с подарками и игрушками, наряжанием деревьев (в настоящее время – в основном ёлки) и расцвечиванием их огнями – всё это идёт от дионисии и сатурналий, а ещё раньше – от гиперборейских традиций. Вот одно из описаний – в стиле бурлеска – той стародавней счастливой и безмятежной жизни:
Средневековый манихейский текст, опирающийся на древнеиранские и иные источники, также хранит описание Царства Света, где обитают блаженные:
В памяти северных народов смутные воспоминания о Золотом веке закодированы в форме разного рода мифологем. У карело-финских народов, например (как уже говорилось), она запечатлелась в виде образа-символа волшебной мельницы Сампо (по-саамски – Сайво), которая расширилась до размеров Страны изобилия, существующей в потустороннем мире. В русском фольклоре также имеется рудиментарная память о чудесной мельнице – символе вечного изобилия и счастья. Это – известный сюжет о волшебных жерновках, их герой сказки добывает на небе, взобравшись туда по стволу и ветвям огромного дуба (коррелят Мирового Древа). В середине прошлого века в Смоленской губернии была записана и другая побасенка, впитавшая народные представления о Золотом веке. Речь идёт о фантастической Небесной избушке, у неё «стены из пирогов, печка из блинов, столы сырные, лавки пряничные, и всего в ней довольно: и масла, и творога, и мёда». Вообще, есть все основания полагать, что большинство эпизодов волшебных сказок, связанных со счастливой жизнью и благоденствием (особенно в конце), есть ни что иное, как архетип Золотого века, сохраняемый (независимо от чьих бы то ни было воли и желания) в коллективной бессознательной памяти народа о счастливом прошлом и передаваемый, как эстафета, от поколения к поколению. Классической мифологемой перманентного достатка является и знаменитая скатерть-самобранка, а такжe образ Золотого царства, рассказ о котором предваряет присказка о месте, где текут молочные реки с кисельными берегами. (Нелишне также вспомнить ещё раз, что символический образ «молочных рек» напрямую сопряжён с Молочным морем – так в старину именовался у индоевропейцев покрытый белым снегом и льдами Северный Ледовитый океан.) Мифологема «молочные реки» присутствует и в известных описаниях Золотого века у античных авторов:
Это – Овидий. Ранее Гесиод описывал Золотой век ещё детальнее:
Похожие характеристики Золотого века и его привязку к северным регионам, можно обнаружить в других первоисточниках. Священная книга древних иранцев – «Авеста» – рисует царство первопредка Йимы, где не было ни зноя, ни холода, ни боли, ни смерти. Фирдоуси в «Шахнаме» уточняет: «Не знали в ту пору ни смерти, ни зла». Индоевропейская общность тогда ещё не была расчленена. Впоследствии грянули морозы и сковали землю, они-то и заставили прапредков современных иранцев мигрировать в южном направлении. Но и в сопредельных культурах Евразии и других континентов сохранились воспоминания о счастливом прошлом. Так, на островах Океании зафиксированы предания о сказочной эре изобилия и блаженства. Островитяне верят, что рано или поздно все умершие предки когда-нибудь вновь вернутся домой на кораблях, гружённых богатством и припасами, и на островах вновь наступит Золотой век. В китайских преданиях расцвет идеальных общественных отношений связывается со временем царствования легендарных императоров Яо и его зятя и преемника Шуня (последний, кстати, обладал способностью летать, подобно птице, на собственноручно изготовленных крыльях – прямая аналогия с древнегреческим Дедалом). Китайцы были убеждены, что жители далекой Страны счастья, недосягаемой для порочных людей, владеют секретом продления жизни. Поиски и приобретения эликсира бессмертия превратились в навязчивую идею для многих владык Поднебесной империи. Ради достижения заветной цели формировались и отправлялись во все концы света сухопутные отряды и морские флотилии. Некоторые из них достигали полярной кромки льдов, принимая их за облачную землю, уводящую прямо на небо. Посланцы императоров ни с чем возвращались домой, где рассказывали и записывали чудесные истории: «Да, мы видели далеко на севере прекрасные высокие горы, подпирающие край неба...» Однако при приближении кораблей священные горы, ослепительно сверкая, начинали погружаться в пучину. Или налетал неожиданный шквал, и судно останавливалось. С корабельных мачт отчётливо различались и люди, и дома, и деревья, и животные, и птицы. Всё свидетельствовало о достатке и благополучии. Да и сами аборигены Севера от поколения к поколению передавали захватывающие предания о Стране счастья, которая некогда процветала на территории Арктики. Более того, следы её не затерялись и сейчас. Ещё в 1924 г. советский этнограф (и будущий писатель) Степан Григорьевич Писахов (1879-1960) слышал и записал на Новой Земле от старика-ненца удивительную историю: «Если пройдешь льды, идя все к северу, и перескочишь через стены ветров кружащих, то попадёшь к людям, которые только любят и не знают ни вражды, ни злобы. Но у тех людей по одной ноге, и – каждый отдельно – они не могут двигаться, но они любят и ходят обнявшись, любя. Когда они обнимутся, то могут ходить и бегать, а если они перестают любить, сейчас же перестают обниматься и умирают. А когда они любят, они могут творить чудеса...» Достаточно концентрированное и обобщённое воспоминание о Золотом веке на севере Евразии сложилось и в древнеиндийской мифологии. Никогда не переставали удивлять слушателей устных преданий подробности о волшебной Стране счастья, где «не было ни болезней, ни обмана, ни зависти, ни плача, ни гордыни, ни жестокости, не было ссор и нерадивости, вражды, обид, страха, страданий, злобы и ревности...» Страна изобилия и счастья однозначно связана в представлении прапредков индийцев и других индоевропейцев с Полярной горой Меру – обители первотворца Брахмы и первоначального места пребывания других индийских богов. Вот, как описывается благословенная полярная прародина и царящий там Золотой век в 3-й книге «Махабхараты», носящей название «Араньякапарва» («Лесная»): «На тридцать три тысячи йоджан (раскинулась) золотая гора Меру, царица гор. Здесь (расположены), о Мудгала, сады Богов – Нандана и другие благодатные места отдохновения праведников. Там нет ни голода, ни жажды, ни усталости, нет страха холода или жары, не бывает ничего неблагого или такого, что вызывает отвращение, нет никаких болезней. Всюду там веет нежными ароматами, всякое прикосновение приятно. Отовсюду там, о мудрец, льются звуки, чарующие душу и слух. Здесь нет ни печали, ни старости, ни тревог, ни страданий...» Не правда ли, приведённый отрывок нам что-то напоминает? Ну, конечно же, описание Плинием Старшим счастливой жизни гиперборейцев! Некоторые обороты совпадают почти текстуально! Cогласно представлениям индоариев, которые сформировали ядро своей идеологии на полярной прародине, владыкой Севера и хранителем традиций Золотого века является бог богатства Кубера. Одновременно он является и властелином подземного царства. Первоначально Кубера никаким богом даже и не был. К сонму бессмертных небожителей его причислили за подвижническую жизнь и благочестие. С тех пор Кубера и стал стражем Севера. На отрогах Вселенской горы Меру Кубера владел райским садом, но предпочитал жить под землёй, где скопил несметные богатства. Кстати, имя древнего бога Севера созвучно с именем саамского исполина Куйвы, чьё стометровое наскальное изображение вознеслось над священным Сейдозером в самом центре Русской Лапландии, где недавно были обнаружены материальные следы и памятники, восходящие к гиперборейским временам… В.Н. Дёмин, доктор философских наук. Крестовый поход 1147 г. против славян и его результаты
Николай Грацианский, «Вопросы истории». 1946 год, № 2-3. Христианизация была для немецких феодалов лишь благовидным предлогом для хищений в славянских землях за Лабой. Когда Бернард Клервосский стал проповедовать в 1147 г. крестовый поход в Палестину, саксонские князья отказались последовать его призыву, ссылаясь на то, что они у себя дома ведут войну против язычников. Тогда возникла (неизвестно кем высказанная) мысль облечь в форму крестового похода и борьбу с язычниками-славянами. Бернард Клервосский, который носился с фантастическим планом обращения всех народов в христианство и, которому было совершенно неизвестно положение дел за Лабой, с жаром ухватился за эту идею и стал её проповедовать со всей силой своего исключительного красноречия. На Франкфуртском сейме 19 марта 1147 г. он обнародовал особое воззвание, в котором приглашал христиан «вооружиться» против язычников-славян, чтобы «или совершенно искоренить их или обратить в христианство». Участникам этого своеобразного крестового похода Бернард обещал такое же «прощение грехов, что и тем, которые направлялись в Иерусалим»[1]. Папа Евгений III в особой булле, обнародованной 11 апреля, подтверждал обращение Бернарда Клервосского, причём в полном согласии с ним предписывал действовать решительно, запрещая «принимать от язычников... деньги и выкупы и дозволять за это коснеть в их неверии»[2]. Монахи Цистерцианского ордена, к которому принадлежали Клервосский аббат и сам папа, быстро распространили идею крестового похода против язычников не только в Германии, но и в других, соседних странах. Немецкая агрессия облекалась, таким образом, в форму священного предприятия, которое привлекло, прежде всего, массу хищников из Саксонии. Большую роль в организация похода играли Генрих Лев и Альбрехт Медведь, стремившиеся окончательно поработить силами своеобразных крестоносцев славян за Лабою. В походе принимали также деятельное участие епископы, и, прежде всего, епископы славянских областей, вынужденные после славянских восстаний конца X и начала XI вв. покинуть свои епархии. Эти епископы, возглавляемые епископом гавельбергским, который назначался папским легатом при крестоносцах[3], мечтали вернуть потерянные десятины и иные доходы и земли, когда-то пожалованные им Оттоном I. К походу примкнули также датчане, терпевшие от славянских набегов, и даже французские (бургундские), чешские и польские феодалы. Крестоносцы решили двинуться на полабских славян двумя армиями: одна должна была идти с Нижней Лабы против ободритов, другая – из Магдебурга против лютичей. Во главе первой армии стояли Генрих Лев, Конрад, герцог бургундский, архиепископ бременский Адальберт, епископ бременский Дитмар и др.[4] С этой армией должны были соединиться датчане, предводимые обоими своими королями – Свеном и Канутом, которые решили прекратить внутренние усобицы для совместных действий против общих врагов – ободритов[5]. Во главе второй армии из светских князей стояли пфальцграфы Фридрих Саксонский, Герман Рейнский, маркграфы Альбрехт Медведь и Конрад Мейсенский, а из духовных князей, помимо папского легата, епископа гавельбергского, – архиепископ Фридрих магдебургский, епископы гальберштадтский, мерзебургский, бранденбургский и мюнстерский, а также Вибальд, аббат корвейский[6]. Последний имел виды на о. Руяну, основывая свои притязания на старинной нелепой версии о том, что почитаемый на острове Святовид – это обожествлённый славянами св. Вит, покровитель Корвейского монастыря, которому когда-то немецкие короли будто бы пожаловали остров[7]. Только непоколебимая уверенность немцев в успехе могла побудить аббата двинуться за Лабу для того, чтобы не допустить нарушения прав своего монастыря при предполагаемом дележе славянской территории. О численности двинувшихся против славян армий крестоносцев мы имеем такие данные: в северной армии насчитывалось будто бы 40 тыс. человек, в южной – 60 тыс., в датской – 100 тыс.[8] Конечно, эти цифры очень преувеличены, но во всяком случае они показывают, что за Лабу двинулись огромные, невиданные до того времени немецко-датские полчища, которые должны были раз навсегда покончить с независимостью славян и их язычеством. Славяне, однако, не пали духом перед лицом такой страшной опасности и вовсе не собирались покоряться немцам. Главным героем обороны от врагов выступил отважный Никлот, князь ободритов. Гельмольд определённо не любит Никлота и не всегда справедлив в своих суждениях о нём, но всё же то, что он сообщает о действиях этого князя, ярко рисует его таланты как полководца. «Услышавши, что в скором времени должно собраться войско для разорения его, – читаем у Гельмольда, – Никлот созвал весь народ свой и начал строить укрепление Добин, дабы было убежищем народу в случае надобности»[9]. Местоположение знаменитого Добина в точности неизвестно[10]. Надо думать, что он быд воздвигнут на холме, в болотистой местности, у Зверинского озера, и, подобно всем крупным славянским крепостям того времени, был неприступен в летнее время. Никлот, конечно, не «построил» вновь, а лишь привёл в порядок и улучшил бывшие уже укрепления Добина, рассчитывая отсидеться в нём до зимнего времени. Вместе с тем Никлот искал союзников в предстоящей борьбе и обратился к графу голштинскому Адольфу с напоминанием о заключённом с ним соглашении. Хотя Адольф и не сочувствовал крестовому походу, но он, конечно, отказался помогать Никлоту против своего герцога, Генриха Льва, и единственными союзниками князя оказались руяне. Опираясь на союз с воинственными мореходами, Никлот выработал, как показывают дальнейшие события, замечательный план обороны. Целым рядом комбинированных мероприятий на суше и на море он задумал уморить крестоносцев голодом и тем сорвать все их захватнические планы. Первой целью Никлота был разгром предполагаемой ближайшей операционной базы крестоносцев в Вагрии. Внезапным налётом с моря Никлот захватил 29 июня Любек и уничтожил стоявшие в его гавани корабли, причём «народ, упившийся большим возлиянием, не смог двинуться со своих постелен и судов, пока враги не окружили их и, подложив огонь, не погубили суда, груженые товарами. И были убиты в этот день до 300 и более мужей»[11]. Уничтожив таким образом суда и любекские гавани и предавши пламени город, Никлот послал два отряда всадников, которые прошли всю землю вагров, истребивши и захвативши в плен осевших здесь немецких колонистов. Лишь колонистов из голштинцев, осевших к западу от верхнего течения Травны, славяне почему-то не тронули. Может быть, Никлот хотел посеять раздор между немцами, внушив подозрение к голштинцам в том, что они действовали заодно со славянами. Если это так, то Никлот блестяще достиг своей цели, так как на голштинцев действительно пало подозрение в измене. По словам Гельмольда[12], «была в то время у всех речь на устах, что этот злой беспорядок (т.е. истребление колонистов) учинили некоторые из гользатов, по ненависти к пришельцам, которых граф собрал из разных стран для заселения земли. Поэтому одни только гользаты и оказались нетронутыми при общем разорении». Итак, первым результатом объявленного на Франкфуртском сейме крестового похода против славян были разгром этими последними цветущего немецкого торгового города на Балтийском море и почти полное уничтожение колонистов, с большим трудом собранных для поселения в завоёванной Вагрии из разных областей Германии и Нидерландов. Славяне, по-видимому, не понесли потерь при своем смелом набеге и, вернувшись на суда, «отплыли, обременённые пленными людьми и разным имуществом, которые они захватили в земле вагров»[13]. Неожиданная диверсия Никлота, естественно, вызвала большой переполох среди немцев, и крестоносная армия поспешила вторгнуться в землю славян, «дабы обуздать их жестокость»[14]. Никлот очистил и разорил территорию своего княжества, по которой должны были проходить крестоносцы, и засел с большим запасом провианта и большими силами в Добине. Немецкие полчища, двинувшиеся против ободритов с Нижней Лабы, повидимому, уже в июле были под Добином. Сюда же поспешили и датчане, флотилия которых пристала к славянскому побережью, по-видимому, в Висмарском заливе, неподалёку от Зверинского озера, у которого был расположен Добин. Первыми приплыли готы с их королём Канутом и шлезвигцы с королём Свеном. Потом подошли подчинённые тому же Свену зеландцы и шоненцы[15]. Большая часть датского войска, высадившись на берег, пошла на соединение с саксами под Добин, другая часть осталась на судах для их охраны[16]. Никлоту, засевшему в Добине, оставалось выполнить вторую часть своего искусно задуманного, плана обороны, именно перерезать морские коммуникации крестоносцев и нанести удар по датскому флоту, который, повидимому, доставлял продовольствие осаждающим, так как покинутая жителями область ободритов и опустошённая Вагрия не могли кормить крестоносную армию. К тому же сухими путями сообщения вообще трудно было пользоваться из-за болотистого характера местности[17]. Никлот блестяще разрешил поставленную задачу при помощи руянских мореходов. У Гельмольда мы читаем: «Однажды осаждённые, видя что войско данов действует нерешительно, – ибо они лишь у себя дома вояки, на чужбине же не отличаются мужеством, – сделали неожиданно вылазку, многих из них перебили и положили удобрять землю. Помощь им подать было нельзя, так как между (войсками) лежало озеро»[18]. Саксом Грамматик сообщает, что руяне решили оказать помощь осаждённым в Добине ободритам нападением на датский флот и не замедлили привести в исполнение своё намерение. При этом Саксон Грамматик довольно подробно описывает морское сражение руян с датчанами, о котором Гельмольд совершенно умалчивает[19]. Надо полагать, что действия Никлота с суши и руян с моря происходили одновременно и были согласованы: Нилот должен был отвлечь внимание датского войска от кораблей и тем помочь руянам одержать победу. Цель эта была достигнута, и руяне имели на море не меньший успех, чем ободриты на суше. Они напали на подчинённых Свену шоненцев и разбили их флот, которому подчинённые Кануту ютландцы не захотели оказать никакой помощи[20]. К тому же руянам помогло то обстоятельство, что начальник флотилии Свена – епископ рёскильдский Аскер – в самом начале сражения покинул свой военный корабль и укрылся на Торговом судне. По словам Саксона Грамматика, «зрелищем постыдного бегства он привёл в смятение тех, кого должен был бы своим примером возбудить к мужеству в битве»[21]. Хотя шоненцы и связали свои суда канатами (чтобы не дать никому возможности последовать благоразумному примеру епископа), но всё же они потерпели полное поражение, причём одни погибли от меча, другие утонули в море[22]. Весь шоненский флот достался победителям, и руяне тем самым удвоили свои силы[23]. Однако у них не хватало людей для обслуживания захваченного флота, и они пошли на хитрость, чтобы ввести в заблуждение напуганных неприятелей, именно: поставили на отбитых судах палатки, в которых якобы находились готовые к бою люди. Вместе с тем, скрывая сравнительную малочисленность своего флота, они по ночам отводили часть судов в мope, а по утрам приводили их вновь, чтобы создать впечатление прибытия подкрепления[24]. Всеми этими действиями руяне, очевидно, хотели совсем запугать датчан и принудить их к сдаче. Однако Саксон Грамматик сообщает, что «лукавство их оказалось напрасным»[25]. Несмотря на то, что значительная часть датского флота уцелела, всё же на море господствовали руяне. Снабжение стоявшей под Добином армии вследствие этого должно было прекратиться, и ей грозил неминуемый голод. Это охладило воинственный пыл крестоносцев, и они стали подумывать об отступлении. Даны, горевшие желанием отомстить Никлоту за поражение, узнав о нападении руян, переменили своё намерение и поспешили к судам[26]. По-видимому, они уже не вернулись под Добин и не замедлили отправиться восвояси; что же касается оставшихся под крепостью саксов, то они заговорили о нецелесообразности похода, о том, что бессмысленно опустошать землю, которая платила дань немцам. «Разве земля, которую мы опустошаем, – так будто бы говорили саксы, – не наши земля? И народ, с которым мы воюем, разве не наш народ? Зачем же нам быть врагами самим себе и расточителями следуемых нам даней? Не проистекают ли от этого убытки для государей наших»[27]. Как видим, немцы поняли всю бессмысленность своего предприятия лишь после того, как славяне дали им жестокий урок, в результате которого оказалось, что вместо ожидаемой лёгкой добычи крестоносным хищникам грозили в славянской земле одни только лишения. Гельмольд сообщает, что саксы «начали медлительно вести войну и облегчать осаду скрытыми перемириями. Ибо каждый раз, как в схватке славяне оказывались побеждёнными, войско воздерживалось преследовать беглецов и не стремилось овладеть крепостью» [28]. Всё это означает, что в то время, когда Никлот не прекращал производить вылазки из осаждённой крепости, в крестоносном войске стали наблюдаться усталость и даже разложение: оно просто не хотело воевать и жаждало вернуться на родину. При таких условиях князьям ничего не оставалось делать, как заключить с Никлотом мир, условия которого давали бы хоть видимость удовлетворения их притязаний: в противном случае пришлось бы со стыдом возвращаться домой и иметь неприятные объяснения с папой. Гельмольд говорит, что «когда нашим наскучило, согласились на то, чтобы славяне приняли христианскую веру и отпустили бывших у них в плену данов. И вот многие из них крестились притворно, а из пленников отпустили всех старых и неспособных к труду, прочих же, коих возраст делал более пригодными к рабской службе, удержали»[29]. «Так, – с иронией заключает Гельмольд, – большой этот поход разрешился малою пользою. Ибо тотчас же потом (славяне) стали действовать хуже прежнего: ни крещения не признавали, ни воздерживались от ограбление данов»[30]. На Западе неудача похода против ободритов вызвала слухи о том, что немцы, будучи подкуплены славянским золотом, предали датчан, «многие тысячи» которых погибли от славянского меча вследствие этой измены[31]. Главная (южная) армия крестоносцев собралась, как было условлено, в Магдебурге. В августе она двинулась к Гавельбергу и здесь имела остановку[32], причём папский легат, епископ гавельбергский, впервые попал тогда в свою епархию. В Гавельберге, по-видимому, совещались о дальнейших планах действий. Эти планы шли очень далеко. Как показали последующие события, немецкие хищники имели в виду не столько покорение лютичей соседних с Гавельбергом областей, сколько захват Поморья, в состав которого входила тогда и старая территория лютичей за Пеной. Основное направление всему походу, очевидно, давал Альбрехт Медведь, который хотел расширить силами крестоносцев пределы своей северной марки за Пену и за Одру. Здесь было уже распространено Отгоном Бамбергским христианство, но надо думать, что князья скрывали этот факт от массы крестоносцев, возбуждая их алчность перспективой богатой добычи у язычников, по отношению к которым всё считалось дозволенным. Духовные князья соревновались в своих воинственных планах со светскими, причём возглавлявший этих прелатов архиепископ магдебургский мечтал подчинить своей власти независимое поморское епископство и завладеть его обширными доходами в богатом Поморье. Выше было указано, что аббат корвейский Вибальд имел виды на остров Рупну. Таким образом, двинувшиеся за Лабу немецкие полчища хотели поработить не только полабское, но и поморское славянство, независимо от того, какую веру оно исповедывало. Участие поляков в крестовом походе было вызвано стремлением защитить польские интересы в Поморье, поскольку это последнее долгое время принадлежало Польше и. открывало для неё выход к морю. Где присоединилось польское войско к основной армии, неизвестно. Невидимому, это произошло где-нибудь около Одры, может быть, даже под Щетином ... Армия пошла к Поморью той самой дорогой, какой, 20 лет назад ехал Оттон Бамбергский. Пройдя с большими трудностями дремучий лес, отделявший область гаволян от области морочен[33], крестоносцы вышли к озеру Морице и оказались на языческой территории, не признававшей ни власти немцев, ни христианства. Жители разбегались, спасая, что могли, а крестоносцы опустошали и жгли славянские селения[34]. Был сожжён при этом славянский город Малхон вместе со стоявшим перед его воротами языческим святилищем[35]. Обозначая свой путь грабежами, поджогами и убийствами, армия направилась к Дымину – городу лютичей на Пене, – но, не доходя до этого города, разделилась: часть армии направилась к Щетину. Под Дымином крестоносцы неожиданно встретили такое же сопротивление славян, как и под Добином. Мы в точности не знаем, что здесь произошло, но по некоторым намёкам можем судить, что на Пене крестоносцев постигла такая же неудача, что и у ободритов под Добином. Гельмольд недаром смешивает события под обеими славянскими твердынями в одно целое повествование о неудаче крестового похода[36]. Есть и другие известия о несогласиях и неудаче крестоносцев под Дымином[37]. Самым ярким показателем этой неудачи является поведение корвейского аббата, быстро распростившегося со своими мечтами о завоевании Руяны и уже 8 сентября вернувшегося из похода. Выражая свою радость по поводу избавления от опасностей в славянской земле, аббат говорит, что поход хотя и оказался безрезультатным, по зато был выполнен «с послушанием»[38]. Полная неудача постигла и ту армию, которая направилась для действия против Щетина, главного города Поморья. Когда крестоносцы обложили этот город, осаждённые выставили на городских валах кресты, в знак того, что они христиане, и тогда среди армии произошло замешательство. Всем стало очевидно, что затеянное предприятие стояло в вопиющем противоречии с идеями, провозглашёнными Бернардом Клервосским и папой, и рядовые крестоносцы поняли, что они одурачены князьями, которые их руками не у язычников, а у христиан хотят захватить новые земли и новые доходы[39]. Тем временем из осаждённого Щетина явилось в лагерь крестоносцев посольство, во главе которого стоял сам епископ поморский. По известию чешского летописца Викентия Пражского, оставившего наиболее подробные сведения о действиях крсстоносцев под Щетиной, участники посольства спрашивали князей, зачем они пришли к ним с оружием в руках, причём говорили, что если речь идёт «об утверждении веры христианской, то это нужно делать не оружием, а епископской проповедью»[40]. Но так как, сообщает дальше чешский летописец, «саксы пришли с таким войском больше для захвата земли, чем для утверждения веры христианской», бывшие в войске епископы поспешили заключить мир с князем Поморья Ратибором и снять осаду города[41]>. Конечно, не речи посольства оказали влияние на решение вождей похода, которые заранее знали, против кого они идут: их принудило к отступлению настроение армии, в которой смятение всё увеличивалось и даже начались прямые беспорядки. Согласно одному известию, рыцари, делившие между собою ещё не захваченную добычу, натолкнулись на решительное противодействие крестоносцев из простонародья, которые не пожелали продолжать военных действий против щетинцев и, не слушая своих вождей, в беспорядке покинули лагерь[42]. При отступлении войско понесло большие потери»[43]. Таким образом, широко задуманный крестовый поход против славян повсюду с позором провалился, и у современников па этот счёт не оставалось никаких сомнений: все они почти единодушно отмечают полный неуспех похода немцев за Лабу[44]. При этом одни из них объясняют неудачу похода раздорами князей[45], другие – незнанием неприятельской местности[46], третьи – тем, что крестоносцы ратовали не за «божие дело»[47], руководствуясь чисто хищническими побуждениями. В действительности поход сорвался благодаря героическому сопротивлению славян, и самые раздоры князей и разложение и армии начались лишь после того, как немцы неожиданно натолкнулись на сильные славянские крепости, защитники которых дали решительный отпор немецким хищникам. Ведь даже и под Щетином дело решили не кресты, расставленные на городских валах, а грозный вид щетинских укреплений, защищаемых отважным славянским гарнизоном. По мнению одного из немецких писателей-националистов, В. Гизебрехта, поход 1147 г. всё же не окончился безрезультатно. Хотя, говорит он, немцы и не совершили славных деяний за Лабой и не сумели всю славянскую землю привести к христианству, но всё же «своею военною мощью они навели немалый страх на славян», в дальнейшем оказавший своё действие на их поведение[48]. Но как мог навести страх поход, кончившийся полной неудачей и показавший бессилие немцев подавить славянскую независимость? Не вернее ли думать, что этот поход решительно ослабил влияние немцев за Лабой, посеял здесь не страх к немецким захватчикам, а ещё большее отвращение и ненависть к ним и в то же время укрепил уверенность славян в своих силах? Гизебрехт ссылается на то, что поморским князь Ратибор, будто бы напуганный крестовым походом, вынужден был в 1148 г. явиться в Гавельберг на свидание с саксонскими князьями и дать здесь обещание блюсти и распространять христианскую веру. Но приезд Ратибора в Гавельберг осенью 1148 г., последовавший по вызову саксонских князей, можно толковать как раз в обратном смысле: именно не Ратибор был напуган немцами, а немцы были напуганы настроением славян после крестового похода, и это заставило их принять меры к тому, чтобы обезопасить себя от враждебных действий поморского князя[49]. Твёрдые начала распространению христианства в Поморье были положены уже Оттоном Бамбергским, и Ратибор, сам получивший крещение от этого епископа, продолжал независимо от результатов крестового похода распространять в своём княжестве новую веру[50]. Поморье никогда позднее не возвращалось к язычеству (по крайней мере, формально), и здесь вместе с христианством и христианским духовенством всё более и более утверждалось немецкое влияние. Альбрехт Медведь, потерпевший неудачу в своих хищнических устремлениях к Пеней Поморью, особенно стал прилагать усилия к тому, чтобы прочно и окончательно утвердиться в долине Гавелы. Гавельберг – столица брижан – был уже в его руках; оставалось захватить столицу гаолян – Бранибор. Когда в 1150 г. умер приверженец немцев князь Прибыслав, Альбрехт Медведь, числившийся наследником умершего, захватил, с помощью его жены, Бранибор и всё Браниборское княжество. Немцы, однако, лишь воровским образом смогли ввести в столицу княжества свой гарнизон, причём жена Прибыслава целых три дня скрывала смерть мужа, чтобы дать немцам возможность это сделать[51]. Захват крепости, надо думать, был неожиданным для славян, и, будучи поставлены перед совершившимся фактом, они не смогли оказать сопротивления немецким разбойникам. Альбрехт Медведь немедленно принял меры для упрочения своего положения в городе: он изгнал из него наиболее влиятельных и непримиримых славян и оставил только своих испытанных сторонников[53]. В том же 1155 г. скрывавшийся в Польше родственник умершего Прибыслава – Ячко – внезапно явился к Бранибору и без сопротивления занял город. Без сомнения, он нашёл поддержку у славянского населения княжества, и даже гарнизон Бранибора, состоявший частью из славян, не стал защищать город. Таким образом, старая славянская крепость на Гавеле снова ушла из немецких рук, а с нею вместе и всё Браниборское княжество, над которым эта крепость господствовала. Альбрехт Медведь никак не мог примириться с этой потерей, грозившей свести на нет его захваты за Лабой, и употребил все усилия к тому, чтобы снова подчинять Бранибор своей власти. Был организован большой поход на этот город, в котором приняли участие ряд саксонских князей и архиепископ магдебургский Вихман. Большое немецкое войско, разделившись на три отряда, окружило город и после долгой осады принудило его защитников к сдаче[54]. Это было в 1157 г., и с тех пор Бранибор уже не уходил из рук немцев. С падением этой крепости активная роль брижан и гаолян в борьбе с немецкой агрессией кончилась, но их восточные и северовосточные соседи, защищённые дремучими лесами и труднопроходимыми болотами, ещё не скоро подчинились власти немцев. Как и в завоёванной ранее Вагрии, христианство в долине Гавелы распространялось не путём крещения местных язычников-славян, которые решительно не хотели знать немецкой веры[55], а путём переселения сюда колонистов из Германии и Нидерландов. В этом деле Альбрехту Медведю усиленно помогали епископы, так как, по словам Гельмольда, с приходом колонистов «множились церкви и возрастало владение десятинами»[56]. Таким образом, погоня за церковными десятинами была важнейшим стимулом, заставлявшим духовных князей содействовать заселению славянского края выходцами из Нидерландов и Германии. Утверждение влияния немцев на Гавеле приводило к тому, что епископы стали возвращаться в свои давно покинутые епархии: сначала вернулся (уже в конце 40-х годов) епископ гавельбергский, а затем (в начале 60-х годов) и епископ браннборский[57]. У ободритов, которые после крестового похода сделались, по словам Гельмольда, «хуже прежнего», усилилась власть князя Никлота, продолжавшего, впрочем, признавать верховную власть герцога. Граф голштинский Адольф поспешил восстановить мирные отношения с Никлотом, но прежней близости между ними не было, и Адольф всё время опасался враждебных выступлений своих соседей[58]. Разорённая Никлотом Вагрия терпела голод и нуждалась в экстренной помощи. Граф посильно помогал голодным и старался выкупить захваченных славянами пленных[59]. Неудачно вмешавшись в усобицы датчан, Адольф навлёк нашествие на Вагрию короля Свена, и она снова подверглась опустошению[60]. При таких обстоятельствах о распространении среди славян христианства думать не приходилось, и даже в Старграде процветало язычество. Здесь под руководством жреца Мике и происходившего из рода Крутого князя Рохе – «идолопоклонника и великого морского разбойника» – открыто поклонялись богу Прове и совсем не хотели знать христианства[61]. Да и повсеместно в славянской земле, по словам Гельмольда, «приносили жертвы демонам, а не богу» и вместе с тем «производили пиратские набеги на землю данов»[62]. Датчане больше всех испытывали на себе последствия неудачного крестового похода, и на них повседневно обрушивалась «славянская ярость»[63]. Новый гамбургско-бременский архиепископ Гартвиг (с 1148 г.), совсем не имевший епископов-суффраганов, решил восстановить в земле ободритов остававшиеся почти сто лет вакантными епископства – старградское, мекленбургское и ратиборское (рацебургское) и поставил на первую кафедру Вицелина, а на вторую – Эммергарда, пославши их «в землю лишений и голода, где было седалище сатаны и всякого нечистого духа»[64]. На рацебургскую кафедру епископ пока поставлен не был, повидимому, за неимением подходящего кандидата. О деятельности Эммергарда в Мекленфурге ничего не известно, да и едва ли он был там. Что же касается Вицелина, то из-за соперничества Гартвига с Генрихом Львом он не имел поддержки ни от того, ни от другого, не получал даже церковной десятины, захваченной графом Адольфом, и ничего не мог сделать в своей епархии[65]. В Старграде его проповедь не имела никакого успеха, и он поспешил покинуть этот негостеприимный город, распорядившись построить здесь деревянную церковь[66]. Получивши после долгих хлопот от графа Адольфа деревню Босово с принадлежавшей к ней Дульчаницей и добившись права получить половину десятины со своей немногочисленной паствы, Вицелин приступил к постройке епископского дома в Босове, а тем временем в большой нужде «проживал под буковым деревом», т. е. под открытым небом[67]. В 1154 г. архиепископ магдебургский поставил, по соглашению с Генрихом Львом, епископа в Рацебурге, и ввиду того, что этот епископ не был ставленником Гартвига, его наделяли землями (в размере 300 мансов) и дали ему церковные десятины[68]. Тогда и Вицелин добился обещания такого же дара[69], но в конце того же 1154 г. умер. Преемник его Герольд хотя и был посвящён по представлению Генриха Льва непосредственно папой, но ему приходилось терпеть ещё большие лишения, нежели Вицелину: последний пользовался поддержкой двух монастырей – в Фальдере (Неймюнстере) и в Кучалине[70], – новый же епископ должен был довольствоваться доходами со своих скудных земель в Босове, которые в большинстве лежали необработанными[71]. В начале 1156 г. Герольд посетил Старград, чтобы торжественно встретить здесь праздник богоявления, и сопровождавший своего епископа Гельмольд оставил картинное описание этого путешествия[72]. Город оказался почти пустым, и в нём была лишь небольшая церковь, построенная Вицелином. «Там,– рассказывает Гельмольд,– в жестокий холод, между снежными сугробами, справляли мы богослужение. Слушателей из славян – ни одного, за исключением Прибыслава и ещё нескольких лиц»[73]. Это, очевидно, были официальные представители славян Вагрии, на обязанности которых лежала встреча епископа. Но и они не были христианами. После богослужения Прибыслав, живший в стороне от Старграда, пригласил епископа с его спутниками к себе и обильно угощал их; в связи с этим Гельмольд отдаст должное прославленному славянскому гостеприимству[74]. Пробывши у Прибыслава две ночи и один день, путники, которым, видно, понравилось славянское угощение, отправились ещё к одному знатному славянину – Тессемару. По дороге они видели священную рощу бога земли той – Прове – и воровским образом, «не без страха подвергнуться нападению жителей», разрушили изгородь вокруг священных деревьев, которую сложили в костер и подожгли, чтобы сжечь эти деревья[75]. У Тессемара гости были встречены с большим почётом, но «не сладки были нам,– говорит Гельмольд,– славянские кушанья, так как мы видели оковы и разные орудия пыток, каким подвергали христиан, вывезенных из Дании. Видели мы там священников господних, измученных долгим пленением, и им епископ не мог помочь ни силой, ни увещеваниями»[76]. Приведённый рассказ Гельмольда как нельзя лучше иллюстрирует полный провал христианской миссии даже у приморских вагров, которым, собственно, немцы оставили лишь тень самостоятельности. Епископ находит в старинном центре своей епархии лишь одну жалкую церковь и в торжественный христианский праздник отправляет богослужение в убогой обстановке, при отсутствии молящихся. Проезжая по славянской земле, он не смеет открыто выступить против языческих святынь и лишь украдкой ломает священную изгородь и пытается поджечь несколько священных деревьев, опасаясь возмездия за свою выходку. Принимая угощение от знатного язычника, он не может ни угрозами, ни просьбами добиться от него освобождения из плена или хотя бы улучшения участи даже христианских священников. В ближайший воскресный день, продолжает своё повествование Гельмольд, епископ собрал народ в Любеке и стал увещевать его, чтобы, «покинувши идолов, почитали единого бога» и, принявши крещение, «отказались от злых деяний», именно грабежей и кровавых расправ с христианами[77]. Проповедь осталась безрезультатной, так как славяне указывали на грабительские поборы со стороны герцога и голштинского графа, мешавшие им даже и думать о христианстве[78]. Вскоре после того сам герцог имел свидание со славянскими князьями и по просьбе епископа выступил в несвойственной ему роли проповедника христианства. По сообщению Гельмольда, на увещание графа отвечал Никлот, который сказал: «Пусть бог, который на небе, будет твоим богом, а ты будь нашим богом, и с нас этого довольно. Ты почитай его, а мы будем почитать тебя»[79]. Этими словами, которые у Гельмольда звучат как выражение раболепия, Никлот в действительности хотел сказать, что для славян довольно и одного государя (герцога) и что не надо им ещё другого, небесного: двое будут им слишком дорого стоить. В выступлении Никлота была, таким образом, скрытая ирония, намёк на хищничество герцога, но последний не понял этой иронии и сделал ободритскому князю замечание за богохульство. Впрочем, Генрих Лев серьёзно не думал об обращении славян: по словам Гельмольда, он никогда не помышлял о христианстве, а «только о деньгах»[80]. В роли миссионера немецкий хищник выступал только для формы, в действительности же у него не было никакого желания помогать епископу; ведь помогать – это значило поступаться своими доходами, а герцог, вернувшийся незадолго перед тем из Италии и затративший большие суммы на итальянский поход, думал только о том, как бы покрыть эти затраты, и потому «весь был предан стяжанию»[81]. Епископ целый год вынужден был толкался при дворе герцога, пока не выпросил у него пожалования в Вагрии 300 мансов, которые были обещаны ещё Вицелину. Однако граф Адольф, которому предписано было отвести эти мансы, обманул епископа и отвёл ему втрое меньше, притом данные земли были неудобны для обработки. Новое распоряжение герцога мало помогло делу, и Гельмольд, писавший свою «Славянскую хронику» около 1170 г., говорит, что следуемые епископу земли не получены полностью «даже до сего дня»[82]. Герольд стал жить в Зигиберге, куда перенёс монастырь из Кучалины, а в Старград послал для проповеди христианства одного из своих священников – Брунона. Гельмольд сообщает, что этот последний имел при себе «проповеди, написанные по-славянски», которые он и произносил с успехом перед народом[83]. Сомнительно, однако, чтобы эти проповеди, произносимые человеком, не знавшим славянского языка, имели действительный успех. По всей вероятности, славянская речь в устах чуждого ей человека звучала довольно странно и могла вызвать со стороны славян только насмешку. Во всяком случае, никаких результатов Брунон своими проповедями среди славян Старграда не добился. Не мог добиться он ощутительных результатов и другими, более решительными своими действиями: сожжением священных языческих рощ и насильственным искоренением языческих обрядов[84]. Ввиду безнадёжности дела обращения в христианство местных язычников-славян, решено было привлечь в Старград христиан со стороны. Так возникла здесь саксонская колония и при ней церковь[85]. И в других местностях славянской Вагрии постепенное внедрение христианства происходило, по Гельмольду, не путём обращения местных славян, а путём привлечения сюда новых поселенцев из Саксонии[86]. Все приведённые факты говорят о том, насколько крестовый поход 1147 г., проводившийся во имя обращения славян в христианство, в действительности навредил этому делу. В княжестве Никлота после похода не могло быть и речи о христианстве, и выше уже было сказано, что назначенный в Мекленбург епископ едва ли даже осмелился показаться в своей епархии. Гельмольд, интересуясь главным образом Вагрией, очень мало говорит о деятельности Никлота после его мирного договора с крестоносцами в 1147 году. Из одного случайного известия Гельмольда мы узнаём, что Никлот подвергся заключению в Люнебурге и что лишь вооружённое выступление его сыновей избавило ободритского князя от этого плена[87]. Когда и как Никлот попал в плен к немцам Люнебурга, мы совершенно не знаем. Вернее думать, что это было после похода 1147 г., так как до похода выступление сыновей Никлота едва ли запугало бы немцев и заставило бы их пойти на уступки. Может быть, немцы в окружении Генриха Льва просто решили разделаться с самым опасным для них человеком за Лабой и схватили его в одну из его поездок в Саксонию под предлогом того, что он не выполнял условий мирного договора. И лишь когда этот поступок вызвал вторжение славян, немцы не решились пойти на новую войну с ними и отпустили князя. Из сообщений Гельмольда далее видно, что Никлот подчинил своей власти не только ободритов, но и соседние племена лютичей – хижан и черезпенян[88]. Опять-таки, когда и как это произошло, неизвестно. Нет сомнения, что уже крестовый поход должен был вызвать сплочение приморских лютичей с ободритами, тем более что эти лютичи уже раньше входили в государства Готшалька, Крутого и Генриха. Возможно, что вскоре после похода это сплочение было оформлено подчинением всех полабских славян от границ Вагрии до Одры главному вождю в борьбе с немецкой агрессией – Никлоту, которому, таким образом, удалось восстановить старое государство ободритов в его прежних границах (за вычетом Вагрии и Полабии, захваченных немцами). Но, как и раньше, это объединение, вызванное временными обстоятельствами, было нетвёрдым, а через некоторое время хижане с черезпенянами отказались подчиняться Никлоту и платить установленные дани ему и немцам[89]. Тогда Никлот решился на такие меры, которых меньше всего от него можно было ожидать: не будучи в состоянии привести лютичей к подчинению собственными силами, он обратился за помощью к немцам. Явившись и Люнебург к жене Генриха Льва, правившей в его отсутствие Саксонией с помощью графа г олштинского Адольфа, Никлот принёс здесь жалобу на лютичей, которых выставил мятежниками против немцев, и просил помощи, чтобы привести их к покорению. О том, что произошло в дальнейшем, очень выразительно рассказано Гельмольдом. Мы читаем у него следующее: «И назначено было графу Адольфу с гользатами и стурмарами помочь Никлоту обуздать упорство мятежников, и отправился граф, имея с собою более двух тысяч избранных воинов. Никлот тоже собрал войско из ободритов, «пошли оба в землю хижан и черезпенян и, напавши на (эту) вражескую землю, опустошили всё огнём и мечом. Прославленное святилище с идолами и всякими знаками суеверия разорили. Местные жители, видя, что нет у них сил сопротивляться, выкупили себя огромными деньгами, а неуплаченные дани внесли с излишком. Тогда упоённый победою Никлот много благодарил графа и при возвращении проводил его до края границ своих, проявляя самое тщательное попечение о его войске. С того дня укрепилась дружба графа с Никлотом и они чаще стали иметь совещания в Любеке для общей пользы»[90]. Таким образом, мы видим, что Никлот, в сущности, вступил на тот же самый путь, по которому шёл в своё время Генрих, путь принуждения славян к покорности с помощью немцев. Он не сумел договориться с родственными славянскими племенами, чтобы своими силами разрешить внутренние славянские споры, и не нашёл ничего лучшего, как призвать против непокорных лютичей немцев. В данном случае Никлот выступает не как призванный вождь славян, защитник их интересов, а как ставленник немцев, собиратель дани в их пользу. Неплатёж этих даней лютичами он выставляет прежде всего как бунт против немцев, который и подавляет с их помощью, не щадя славянской земли и разоряя славянские святыни. Очень показательно сообщение Гельмольда о том, что после похода на лютичей Никлот теснее сблизился с немцами: очевидно, его политика пошла теперь именно в сторону укрепления союза с графом Адольфом, в котором он видел самую надёжную гарантию целости своего государства. Это была роковая политическая ошибка, которая в значительной мере свела на нет результаты успешной обороны от немцев и означала полное крушение попытки объединения северных полабских племён в самостоятельное славянское государство. Хижане и черезпеняне, не имевшие твёрдых естественных границ с ободритами и не только этнографически, но и географически составлявшие одно целое с ними, на протяжении столетия упорно противятся включению их в ободритский союз, всеми силами отстаивая свою независимость. Очевидно, все время отсутствуют предпосылки для их тесного слияния с ободритами, и здесь дело не в одном только старом родовом и племенном сепаратизме, общем для всех полабских славян, а еще в каких-то особенностях их общественной жизни. Обладая значительным морским флотом, хижане и черезпеняне, без сомнения, занимались не только разбоями у берегов Дании, но и торговлей с соседними народами, обслуживая, между прочим, вместе с руянами сношения южных прибалтийских стран с более северными. По видимому, они торговали, между прочим, и с Русью; по крайней мере мы имеем основание предполагать, что русские купцы бывали в соседнем Щетине[91]. Достоверно известно, что еще в ХI в. они посещали Волынь[92]. Связанная с грабежами торговля приморских лютичей была источником накопления у них значительных средств, о которых дают некоторое представление известия Гельмольда об огромных денежных суммах, не однократно выплачиваемых ими в качестве военной контрибуции[93]. Богатство лютицких славян за Пеной утверждало их независимость, и недаром в своё время они оторвались от союза четырёх племён, возглавляемого ратарями с их святилищем бога Сваротича в Ретре, причём у них вырос собственный религиозный центр в виде святилища какого-то бога, местоположение которого в точности неизвестно (может быть, в главном городе хижан – Личине). Освободив себя от опеки ратарей с их жречеством Ретры, хижане и черезпеняне лишь насильственно и временно вовлекались в состав ободритского государства при Готшальке и Генрихе, каждый раз возвращая себе независимость. Только временно они могли подчиниться и Никлоту, принявши на себя все обязательства его государства по отношению к немцам. Однако вскоре они стали тяготиться этими обязательствами, и так как немцы непосредственно им не грозили, они отказались платить дани герцогу и Никлоту и вышли из состава его государства. Никлоту можно было договориться с лютичами, лишь отказавшись от подчинения немцам и провозгласивши полную самостоятельность славянского государства за Лабой, как это было при Крутом, но он на такой шаг не решился и вступил на путь принудительного подчинения хижан и черезпенян себе и саксонскому герцогу. А так как для подчинения этих сильных лютицких племён собственных сил ободритских князей никогда не хватало, Никлот обратился к содействию немцев, как это делал в своё время Генрих, причем ободритский князь разгромил совместно с немцами религиозный центр хижан и черезпенян как символ их независимости. Вовлечение немцев во внутренние распри славянских племен привело, конечно, к ещё большему отчуждению лютичей от ободритского князя, и хотя он «упивался победою», но эта победа, в сущности, знаменовала собой крушение его деятельности как борца за славянскую свободу и независимость. В действительности Никлот не объединил, а ещё более разделил силы полабских славян, и это произошло в то время, когда на них надвигалась новая волна немецкой агрессии. И хотя в борьбе с этой агрессией Никлот ещё раз показал своё геройство, защищая славянство, однако он не мог противопоставить сплочённой силе немецких разбойников равную силу объединённых славян и погиб в неравной борьбе, а вместе с ним окончательно погибла и идеи славянской независимости за Лабой. Подведём итоги всему, что сказано о крестовом походе 1147 г. и его последствиях для славянства. Крестовый поход потерпел неудачу благодаря героическому сопротивлению славян. Опираясь на это сопротивление, славянские вожди, возглавляемые Никлотом, сумели мастерски организовать оборону славянской земли от вторгшихся в нее немецких хищников. Нашествие немцев ещё более усилило вражду к ним за Лабой, ярким выражением чего явилось полное нежелание славян принимать христианство. Крестовый поход привёл к тому, что немецкое влияние и христианство могли утвердиться у полабских славян только при условии переселения сюда немецких колонистов. Политическая раздробленность славян, обусловленная всем своеобразием их общественной жизни, не дала им возможности воспользоваться выгодной ситуацией, сложившейся после крестового похода, и утвердить свою самобытность. В частности тот человек, от которого больше всего можно было бы ожидать руководства в образовании единого фронта славян против немцев, – Никлот оказался не в состоянии это сделать и, вернувшись к старой политике Генриха, искал опоры своей власти в помощи немцев. Восстановленное им большое ободритское государство по-прежнему не имело внутренней спайки и держалось на внешнем принуждении. Естественно, что оно не могло выдержать нового столкновения с немецкими полчищами и погибло во время немецкого нашествия 1160 года. Канун научной революции в области историографии
Валерий Чудинов Историография переживает сейчас весьма серьёзный системный кризис, выходом из которого является научная революция. Она будут связана, как с новой методологией, так и с новой приборной базой, после чего возникнет новая историография. Понятие историографии. Историография является описанием реальной истории. Существенным компонентом является то, что она не действует на малых отрезках исторического времени, когда ещё живы участники исторических событий, поскольку не может учесть всего спектра мнений и отношений; а любая их выборка кажется участникам фальшью, поскольку может не передавать именно их аспект проблемы. Однако, по мере удаления от исторических событий, вступает в действие именно историография, как сознательное выделение или, напротив, сознательное замалчивание тех или иных исторических событий. Таким образом, под историографией можно понимать не просто описание истории (чего-то вроде фотоаппарата для неё пока не изобретено), но сознательное выстраивание цепи исторических событий (и лакун между ними) в некоторое законченное историографическое сочинение, приуроченное к определённому историческому региону. На весьма большом удалении от точки современности, она вступает в область «правдоподобных рассуждений» (противник данной концепции называет их домыслами) или неких укоренившихся в народе мнений (противник данной концепции называет их «мифами»). Проблема объективности историографии. Историография во все века являлась особой социальной наукой, вход в которую сознательно ограничивался и позволялся только особенно надёжным людям. Так в советское время на исторический факультет любого вуза можно было поступить только по рекомендации райкома ВЛКСМ, а то и районного комитета коммунистической партии. Ибо разобраться в современности было весьма сложно, а любая точка зрения на неё может быть опровергнута контрпримерами; что же касается прошлого, то оно должно было стать той базой, на которой воздвигается разумное и совершенно закономерно вытекающее из него будущее, вопреки многоликому и противоречивому настоящему. Прошлое становится маяком для разумного будущего, строить которое должен любой член данного общества. Именно эта идеологическая составляющая – дать достойную данного народа картину его прошлого – и противоречит объективности данной науки. Всегда в богатом прошлом могут найтись факты, противоречащие «генеральной линии» настоящего. Например, советская историография ХХ века подчёркивала хаотическое развитие капиталистических стран, приведшее к депрессии 30-х годов, и планомерное развитие СССР за тот же период. О том, что ни одна пятилетка не была выполнена за пять лет в том объёме, в котором она была запланирована, знал только узкий круг особо доверенных лиц. Зато создавался миф о том, что пятилетки были выполнены досрочно, а лозунг предлагал выполнить каждую из них за 4 года. Возникает весьма сложный для историка философский вопрос, что именно в данном случае является истиной: желание правительства поднять трудовой энтузиазм масс путём искажения реальной картины настоящего, или реальная картина в экономике? К сожалению, историк подчас вынужден вставать на одну из крайних точек зрения. Если он состоит на службе у государства, он должен отражать государственную точку зрения и проводить в жизнь лозунги, направленные на повышение производительности труда; если же он является независимым экспертом, у него возникает соблазн впасть в другую крайность, и показывать постоянное отставание реальных достижений от запланированных. Каждый, однако, по личной жизни знает, что в одних случаях запланированное может неожиданно реализоваться раньше, чем намечалось, хотя такое бывает редко, а может реализоваться своевременно, к радости данного лица; но в некоторых случаях реализация затягивается, или откладывается до лучших времён, а иногда и не наступает вовсе. Но такова жизнь. На наш взгляд, проблема тут в определённом смысле мнимая. Ибо известный зазор между желаемым и действительным существует всегда (равно, как и денежная инфляция), и если он невелик, то в определённых ситуациях им можно и пренебречь. Если правительство за счёт своего лукавства действительно добилось стойкого повышения производительности труда, оно свою задачу выполнило, и корить его за некоторое отставание по времени от задуманного смысла нет, хотя величину отставания историк вполне мог бы привести (для других периодов или других стран это отставание могло быть намного большим). С другой стороны, намеченные на XXIV съезде КПСС планы по построению материально-технической базы коммунистического общества не выполнялись ни в пятилетки, ни в семилетку, ни через 15, ни через 20 лет, и именно это дискредитировало сначала КПСС, затем всю коммунистическую идеологию, а далее привело к свёртыванию всего советского общества. Иными словами, борьба Хрущёва против культа личности Сталина обернулась борьбой против коммунистической идеологии в коммунистическом обществе, ликвидацией того ствола, который давал живительные соки СССР, и когда он засох, то развалился и Советский Союз. Так что, в плане развития экономики (но отнюдь не в других отношениях) правительство Сталина больше содействовало процветанию России (в рамках СССР), чем правительство «демократа» (а в действительности, волюнтариста) Хрущёва, развалившего идеологические рычаги воздействия на экономику (экономические рычаги коммунистическая система не принимала, а репрессивные отторгались подавляющим большинством населения). В результате, стагнация экономики и разгул коррупции в России времён Брежнева были предопределены. Что именно не устраивало в истории наших предков. Каждый новый общественный строй, и каждая правящая династия бывали недовольны историографией своих предшественников. В принципе, это вполне естественное положение вещей, но оно обычно касается недавнего прошлого. Скажем, в демократической России в наши дни недовольны сталинскими репрессиями; однако при отсутствии материального стимулирования, первоначальный энтузиазм молодёжи быстро иссяк, а иных стимулов у Сталина, кроме страха, не было. Так что, до какой-то степени насилие (хотя его отнюдь не следовало применять в такой степени и в таком объёме) оказалось для него единственной возможностью как-то повлиять на развитие страны. С другой стороны, именно при Сталине СССР смог провести индустриализацию и разгромить фашизм. Но в сталинский период историография всячески принижала монархию и боролась с религией, видя в них причины отсталости России. При этом закрывались глаза на высочайшие темпы роста экономики России перед первой мировой войной и на её огромное влияние на мировой арене. Это совершенно не вписывалось в идеологию ВКП(б). Не упоминалось и о том, что до революции Россия кормила половину Европы своим продовольствием, тогда, как при коммунистах в самой России разыгрался голод (Голод в России того времени был создан искусственно. Подробнее об этом см. статью А.П. Столешникова «Голодомор». – Д.Б). В царский период возвеличивался дом Романовых, подчёркивалось его родство с рядом других европейских монархов; русское православие считалось лучшим воплощением христианства, а слава русского оружия гремела по всей Европе. И всячески порицалось язычество и двоеверие. Если каждый царь из Романовых заслуживал отдельного изучения, то князья Рюриковичи рассматривались в историографии выборочно, и в целом, как неудачники, которые развалили великую Киевскую Русь на отдельные удельные княжества и потому не смогли дать достойный отпор татаро-монгольскому нашествию. Только с переходом к царской власти и со сменой царствующей династии, как полагалось историками Романовых, России удалось стать европейской державой. Но и в эпоху Рюриковичей подчёркивалось преимущество киевских князей перед новгородскими, и православия перед язычеством (хотя, с точки зрения русской православной церкви после реформ Никона, это начальное православие было совсем не византийского образца). Впрочем, пространных исторических произведений того периода не сохранилось. Иными словами, историками из самых разных сторон общественной жизни нашей страны выделялась какая-то одна, а именно та, которая ценится в данный момент, и демонстрировалось, что именно в современный период она развивается лучше всего, а раньше её не учитывали. И потому современная история много лучше прежней. Проблема начала русской истории. Как бы ни толковался предшествующий период с позиций последующего, но проблема начала истории всегда одна. И тут у любых народов обычно давались не исторические сведения. Либо это была библейская история о том, что господь Бог создал сначала Адама, затем Еву, а потом, после изгнания из рая, у них пошли дети, либо смутные предания о том, какой народ откуда пришёл. В XVIII веке в Европе складывается некий эталон создания историографии, который предписывает начинать её с неких племён (желательно знать их названия), которые проживали на данной территории, ведя весьма примитивный образ жизни. Это – как бы предыстория. А собственно история начинается с создания государства, обретения письменности и с упоминания первых князей в более поздних летописях. Если же у какого-то народа собственных летописей не велось, тогда искали упоминания о них в летописях других народов. Отсюда летописи и другие нарративные источники были возведены в особый класс исторических документов, на основе которых стала строиться вся историография. Разумеется, это было важным историческим нововведением, поскольку раньше подобные сведения о начале истории того или другого народа приходилось черпать из устного народного творчества, а этот источник историками вскоре был признан за ненадёжный. Письменные сведения дают преимущества во многих отношениях: они компактны, транспортабельны, их можно переписывать в нужном числе экземпляров, а главное – их можно хранить. С этой поры источник становится предпочтительнее любого исследования, ибо он даёт юридическое право на признание древним какого-либо исторического события или факта. Особенно это важно было для историографии того или другого народа. Вместе с тем, поскольку письменный источник обретает некоторые юридические функции, из которых могут быть признаны или, напротив, отняты известные привилегии, весьма важным становится вопрос об открытии, интерпретации и хранении источников. Источник изымается из общественного пользования, появляется возможность тайного внесения в него какие-то корректив, его можно через какое-то время переинтерпретировать или даже заменить, при современной техники такие вещи в принципе возможны; и всё это в таком случае пройдёт без свидетелей. Наконец, ненужный источник можно просто потерять или утратить по небрежности, и тогда сторонники противоположных исторических взглядов теряют свои доказательства. Так что, отбор нужных и изъятие ненужных источников является необходимой черновой работой составителя историографии. Как и в других областях отечественной науки, отбор необходимых источников, отсеивание или опорочивание ненужных были проведены нашей историографией уже к началу XIX века. Согласованность исторической картины мира. Естественно, весьма желательно, чтобы основные вехи развития человечества были согласованы между разными национальными историографиями. Собственно говоря, такой проблемы для периода истории Нового времени и не было. Однако, чем дальше от него вглубь веков, тем сложнее понять, какое событие в какой стране случилось раньше, а какое позже. Это согласование закончилось в XVII веке созданием весьма рациональной системы, согласно которой, первой цивилизованной страной на карте мира стала древняя Греция, затем – древний Рим. В XIX веке перед ними поставили историю Египта и Месопотамии, в ХХ веке добавили ещё Крито-микенскую (ровесницу Египта, но на территории более поздней Греции), и в таком виде возникла классическая парадигма мировой историографии. Все остальные народы, входившие в ареал обитания Греко-римской античной культуры, якобы появились позже и в разной степени унаследовали их культуру. А Русь, якобы, возникает очень поздно, и потому не успела почерпнуть из этой сокровищницы ничего. Якобы славяне появляются в V-VI веках н.э., а Русь и того позже, в IX веке, и пришли эти племена (именно племена, тогда, как в Европе уже жили цивилизованные народы) откуда-то из Азии. До объединения в государства, эти племена жили частично в полях, частично в лесах, частично в болотах (поляне, древляне, дреговичи). Классической картине мира это ничуть не мешает, поскольку античность к этому моменту уже закончилась, круг европейских держав очерчен, а добавление степняков скифов или русов её никоим образом не затрагивает. Проблема парадигмы. Понятие парадигмы ввёл историк и методолог науки Томас Кун. Согласно его представлениям, парадигма – это совокупность научных положений, разделяемых данным научным сообществом, вне зависимости от того, насколько оно согласуется с реальным положением вещей, то есть, насколько оно истинно. Само понятие заимствовано из лингвистики, где оно обозначало весь репертуар изменений того или иного слова, например, все падежи склонений существительного, или все лица, числа и времена спряжений глагола. Как видим, понятие парадигмы выражает не объективную, а субъективную и социальную сторону научной истины. При этом, парадигма первична, а научное сообщество вторично. Иными словами, всякий, кто разделяет данную парадигму, может лишь надеяться, что его примут в научное сообщество, зато всякий, кто не разделяет, без какой-либо жалости из него изгоняется. Сообщество подстраивается под парадигму, а не парадигма под сообщество. Применительно к истории это означает, что та сбалансированная по всем национальным аппетитам история Европы, согласно которой не германцы или кельты, не романские, и тем более не славянские народы, а несколько абстрактные для Европы копты и шумеры (впрочем, не давшие Европе культурного наследия), а позже латины и эллины стали основой и знаменем европейской цивилизации, и явилась первой международной парадигмой древней истории. Ясно, что если бы не это, то германцы и до сих пор доказывали бы, что они древнее кельтов, а французы – обратное. Лучше уж пусть некие либо исчезнувшие, либо не претендующие ни на что современные народы типа греков будут во главе исторического процесса, чем предки какой-то из ныне сильных европейских держав. Данная историческая парадигма открыта в том смысле, что к ней можно присоединить любые другие народы на вторых ролях, которые, однако, не заденут саму система или, как говорят сторонники Т. Куна, её эвристику, её ядро. Добавления лишь пополнят пояс защитных гипотез. Например, выясняется, что культурное влияние на римлян оказали этруски. Прекрасно! Но из этого совершенно не следует, что начало европейской истории следует переносить на этрусков. Просто надо действовать в духе данной парадигмы: объявить, что они пришли откуда-то из Азии примерно тогда же, когда пришли и латины (если Рим основан в VIII веке до н.э., то и этруски, следовательно, пришли в Европу не ранее этого времени), затем к периоду расцвета Рима по не совсем ясным причинам исчезли, оставив только яркий след, но ничего более. Открыли в ХХ веке Крито-Микенскую культуру? Тоже прекрасно! И её можно включить в историю Европы, и даже ранее греков, коль скоро она ровесница Египта. Но явного воздействия на греков она не оказала, и потому её можно рассматривать, как некую интересную инкрустацию, но не более. Следовательно, и её народы пришли откуда-то из Азии, а потом, перед классической Грецией, как цивилизация, исчезли, например, в результате взрыва вулкана на острове Санторин, породившего цунами и уничтожившего культуру острова Крит. Так что, в любом случае Греция и Рим остаются колыбелью европейской цивилизации, никакие включения других народов не изменят сложившейся картины. А что касается славян или русских, то они включены в эту картину на третьих ролях: появляются, подобно прибалтам, очень поздно на исторической арене, даже не в раннем средневековье, и тоже откуда-то из Азии, дикие и необразованные, и затем очень долго впитывают в себя азы цивилизации. Часть славян оказывается в составе Оттоманской империи, часть – в составе Австро-Венгрии, тоже империи. Единственная чисто славянская империя – это Россия, но она возникает очень поздно, а в смысле культуры выходит на мировую арену только в XIX веке. И к ней применимы термины «немытая» и «лапотная». Карл Маркс считал её наиболее типичной страной феодализма, отставшей на целую эпоху от типичной страны капитализма – Великобритании. Таковы главные черты существующей по сей день парадигмы историографии Европы. Повторяю, что складывалась она в течение нескольких веков. Её поддерживают все историки Старого и Нового света, в том числе и Российская АН. Согласно ей, не может быть письменности старше египетской или шумерской (а какая из них старше, особой роли не играет), и не может быть влиятельной европейской цивилизации, старше Греко-римской. Всё остальное быть может, если это, соответственно, опирается на мощную систему доказательств. Например, могут быть обнаружены символы, похожие на буквы, но не в качестве письма – пожалуйста, это допустимо и до эпохи бронзы. Могут быть обнаружены и древние народы индоевропейской группы, например, тохары Малой Азии, – но без какого-либо влияния на образование европейской культуры. Так что, данная парадигма не препятствует уточнению истории по второстепенным и третьестепенным вопросам. Подобно любому сакральному знанию, данная парадигма не афишируется, то есть, её не найти в готовом виде. Но зато действуют мощные системы запретов. Скажем, в попытке прочитать этрусскую письменность, можно обращаться к итальянским коллегам за помощью в нахождении материалов. Но, как только итальянские коллеги поймут, что этрусскую письменность вы пытаетесь прочитать на основе славянских языков, их интерес к контактам с вами тут же иссякнет. Точно так же, как если вы захотите исследовать какую-либо систему письма старше эпохи бронзы. Вы тут же уподобляетесь волку, зашедшему в зону обстрела – и вас отстрелят. Проблема научной революции. Тот же Томас Кун ввёл понятие научной революции. Согласно этому положению, все факты, которые противоречат господствующей парадигме, до поры до времени объявляются «курьёзными» и складываются в «копилку курьёзов». На первый взгляд, это странно, поскольку факт – это достоверно подтверждённое наблюдение. Но, как шутят физики, «если факт не вписывается в теорию, то тем хуже … для факта!». И это понятно: теория является общественным достоянием, в её рамках работает несколько сотен или тысяч исследователей, которые получают заработную плату, гонорары за статьи, средства на оборудование и эксплуатацию зданий, иными словами, общество несёт определённые издержки по поддержанию данной теории. Что же касается какого-то факта, то он оказывается известен, как правило, узкому кругу людей, его открывших, или историкам науки, так что, его забвение, как кажется на первый взгляд, не становится существенной потерей для науки. Так парадигма защищает себя. Но вот таких «курьёзов» накапливается всё больше, и господствующая парадигма уже вынуждена как-то объяснить их существование. На первых порах это удаётся; в одних случаях их считают «ошибкой наблюдения», в других – неточной интерпретацией, в третьих – необъяснимыми парадоксами, которые, однако, не мешают жить науке. Даже на этой стадии никакой революции не происходит, хотя можно назвать этот этап эпохой кризиса. Кризис заканчивается тем, что какая-то группа признанных учёных проникается благородной идеей устранить все мешающие науке курьёзы и (о ужас!) показывает неспособность парадигмы их понять: чем точнее и обстоятельнее пытаются объяснить данную аномалию учёные, тем более явной становится несостоятельность парадигмы. А затем развёртывается сама революция, когда рушатся старые теории (вместе с их кумирами) и постепенно возникает новая парадигма с новым научным сообществом. Откуда могут появиться «курьёзы»? Если все члены данного научного сообщества разделяют господствующую парадигму, то откуда возьмутся аномалии, которые в неё не вписываются? Томас Кун показывает, что чаще всего это происходит после смены приборной базы. Так, новая модель Солнечной системы, предложенная Коперником, так бы и осталась курьёзом, если бы не наблюдения Галилео Галилея в подзорную трубу (в отличие от телескопа она не переворачивала изображение), не вычисленные по приборным наблюдениям Тихо Браге эфемериды планет и не выведенные на их основе законы Кеплера. И если по Копернику Солнце находится в центре окружности, то по Кеплеру Солнце располагается в одном из фокусов эллипса, что, однако, почти одно и то же при малом экцентрисситете орбиты. А вот в биологии переход от визуальных наблюдений к применению микроскопа никакой научной революции не произвёл, поскольку не сложилась какая-либо парадигма относительно размеров живых существ. Но что дало применение телескопов в астрономии? Ведь звёзды даже в телескоп выглядят звёздами, то есть, светящимися точками! Да, для звёздной астрономии результат применения телескопов стал несколько иным: число наблюдаемых звёзд увеличилось на несколько порядков. Но вот для планетной астрономии применение телескопов стало поистине революционным: планеты стали выглядеть не как точки, а как диски. И теперь появилась возможность различать их детали. Какую же аналогию можно провести в историографии? Какой инструмент позволил историкам приблизить происшедшее историческое событие настолько, что его можно было бы посмотреть вблизи, а иногда и пощупать руками? Полагаю, что таким мощным «телескопом» историка стали археологические раскопки. Роль археологии в историографии. Представим себе, что вместо крохотного диска планеты астрономы XVII века получили бы огромные фотографии внешней поверхности планет-гигантов, но без атмосферы и без каких-либо пояснений. Возможно, они бы догадались, что речь идёт о планетах-гигантах, но какая фотография соответствует Юпитеру, какая – Сатурну, а какая Урану или Нептуну – это было бы неясно. Кроме того, обилие деталей рельефа совершенно сбивало бы с толку и порождало кучу вопросов, на которые ещё не было бы ответов. Ибо, вместо поэтапного продвижения, планетная астрономия получила бы лавину неизвестных данных. С астрономией, слава Богу, этого не случилось. А вот в археологии получилось именно это: на неё обрушилась лавина новых данных, которые она просто не смогла переварить. Появились древние предметы в виде фрагментов и следов пребывания в земле, но во всей конкретике их бытования! Скажем, раскопки на месте древнего сражения подтвердили само его наличие в виде находок стрел, бронзовых накладок на колчаны, отдельных деталей лошадиной сбруи и воинских доспехов. Оказалось, что принимало участие в сражении несколько различных этносов с различными доспехами, но из отдельных фрагментов цельная картина никак не складывалась. То есть, для подтверждения самого факта сражения найденных артефактов оказывалось избыточно много, а вот для прояснения того, каким было вооружение воина того или другого племени, или какой была сбруя их коней, данных оказывалось исключительно мало. И на два самых жгучих вопроса, кто и когда, археология даёт очень уклончивые ответы. Вместо этого она часто перечисляет иное, что найдено. Археология, к большому сожалению, пока даёт ответы в духе «консультанта» из пьесы А.Н. Островского «Женитьба Бальзаминова»: на вопрос, кто украл, он говорил: «думай на рябого», или «подозревай косого». Археологов спрашивают: «Кто здесь находился?» Они отвечают: черняховцы. Когда? – В поздней античности. А кто такие черняховцы? – Представители черняховской культуры. Кто именно, мы пока не знаем. Одни исследователи полагают, что это готы, другие – что предки славян, трети высказывают иные суждения. Когда именно в поздней античности? Это тоже пока не определяется ни с точностью до десятилетия, ни даже с точностью до полувека. Таким образом, на сегодня историки мыслят годами и народами, археологи – эпохами и культурами. При столь широкой трактовке исторической реальности (несмотря на полную конкретику находок!) данные археологии могут быть подогнаны в ряде случаев под взаимоисключающие исторические гипотезы. Место археологии в современной историографии. Казалось бы, что при таком огромном количестве данных, которые добывает археология ежегодно, она должна была бы давно стать локомотивом историографии, таща её за собой, как прицепные вагончики. В действительности этого не происходит. Археологические данные приводятся историками крайне редко – и это несмотря на то, что содержание археологических подразделений обходится в десятки раз дороже, чем подразделений «чистых» историков. В чём же дело? Можно было бы назвать десятки разных мелких причин, которые важны сами по себе и которые могли бы объяснить данное положение вещей. Однако я усматриваю одну, которую боятся озвучить, как историки, так и археологи. А именно: как это ни прискорбно, но в целом археология не подтверждает историографию. Рассмотрим опять тот же самый пример. Скажем, мы хотим подтвердить факт наличия сражения в определённой местности, начинаем раскопки и находим фрагменты нескольких стрел. Подтверждает ли это наличие сражения? Если не задумываться, то да. Если задуматься, то нет, ибо если копать в другой местности, где сражения не было, то и там мы тоже найдём фрагменты стрел. Ибо в тот период, когда существовали лук и стрелы, фрагменты стрел можно найти во всём ареале их бытования. Следовательно, археолог должен не просто найти некоторое количество стрел, но плотность находок этих фрагментов должна существенно превосходить плотность находок фона, то есть плотность находок в других местностях. Однако, в ряде случаев такая задача археологами не ставится, и потому просто находки фрагментов стрел, хотя и оказываются неким подтверждением, но ненадёжным. Генрих Шлиман раскопал некоторый древний город на холме Гиссарлык, который по его предположениям являлся легендарной Троей, и нашёл целый ряд предметов. Но ни на одном из них не было надписи ТРОЯ, так что, до сих пор ряд археологов сомневается в том, что был найден именно этот город. Кроме того, зная авантюрный характер этого немецкого энтузиаста, некоторые археологи сомневаются вообще в принадлежности найденных вещей раскопанному холму, подозревая, что они были похищены из каких-то раскопок в России. А ведь речь идёт, казалось бы, о наиболее важных достижениях археологии! Почему не эффективна археология. Оставим сейчас в стороне вопрос о подделках, поскольку фальсификаторы существуют во всех науках. Но, что обычно археология считает своим достижением? Установление некоторой археологической культуры, отличающейся от другой по некоторым предметам из определённого археологами комплекса. Развитие какого-то региона, с точки зрения археологии, это смена в нём археологических культур. Часто за каждой такой культурой стоит свой этнос. Чтобы продемонстрировать этот метод, представим себе, что некие археологи будущего, раскапывая городские поселения ХХ века н.э. обнаружат во многих помещениях патефоны. Разумеется, внешняя пластмассовая коробка может не сохраниться, но металлический раструб под диском и сам стальной диск, хотя и в сильно проржавевшем виде, сохранятся. По этим останкам трудно будет понять назначение данного инструмента, однако, данную археологическую культуру вполне законно можно будет назвать культурой дисковых раструбов. Другие археологи, раскапывая окраины города, могут наткнуться на несколько трупов убитых в начале нашего века его жителей. На шее у скелетов могут находиться поврежденные временем останки мобильных телефонов с кнопками, из-за чего археологи буду вправе назвать находки данного периода культурой кнопочных амулетов. А когда выяснится, что женщины культуры дисковых раструбов («раструбницы») ходили в юбках, а женщины культуры кнопочных амулетов («амулетницы») носили брюки, различие в данных культурах будет доказано. Получится, что в Европе «амулетники» вели наступление на «раструбников», пока их полностью не завоевали. Вот так археологи будут трактовать вполне знакомую нам реальность на вполне законном основании – смене материальной культуры за небольшой отрезок времени в пределах изучаемого пространства. Недаром в первые годы советской власти Институт археологии назывался Институтом материальной культуры. Как показывает данный пример, смена материальной культуры отнюдь не всегда означает смену этноса. Одним из мощных этногенетических факторов является язык. Если язык при смене материальной культуры сохранился, значит, этнос просто принял культуру иной эпохи, но не исчез. Эпиграфическая картина мира. Изучением надписей на вещевых находках занимается специальная дисциплина, эпиграфика. К сожалению, её роль в археологии не просто мала, а, можно сказать, ничтожна. Чаще всего эпиграфист может прочитать какую-нибудь длинную цитату из Библии, написанную на подаренном какому-нибудь монарху золотом сосуде, которая плохо читается обычным человеком из-за незнания многих особенностей древнего письма. Это почти ничего не добавляет к характеристике сосуда. Поэтому на целый НИИ вполне достаточно иметь одного штатного эпиграфиста. Гораздо важнее роль эпиграфики в тех случаях, когда надпись сделана шрифтом другого народа. Тогда эпиграфист вполне надёжно может произвести атрибуцию найденного археологического памятника по языку надписи. Если невозможно определить язык, то можно определить хотя бы тип письма, что, конечно же, гораздо хуже. Так, латиницей пишут не только народы Западной Европы, но и славяне, арабским письмом – тюрки, персы, а также народы Афганистана и Пакистана, германскими рунами – как германцы, так финны и балты. Поэтому важно не просто определить тип письма, но и прочитать надпись. Этим решается не только задача определения языка надписи, но и даётся понимание назначению предмета. И вот тут возникает удивительная вещь. Если отвлечься от латиницы и кириллицы, то надписи, например, германскими или тюркскими рунами в своём большинстве не читаются. Так же не читаются и многие арабские надписи Руси. Перейдя теперь к эпиграфической картине мира, можно сказать следующее: вполне сносно читаются латинские, греческие и кирилловские надписи. Однако, к сожалению, они малосодержательны. Несколько хуже дело обстоит с семитским письмом – еврейскими, арабскими, аккадскими, египетскими надписями. Тут читается далеко не всё. Надписи германскими рунами (старшими, младшими, норвежскими, англосаксонскими) тоже имеют ряд совершенно нечитаемых текстов. Среди примерно шести типов тюркских рун читается только один – орхоно-енисейский. Этрусские надписи вроде бы читаются, но понять содержание практически невозможно. В отношении чтения венетских, ретских, фракийских, иллирийских и других надписей Европы делаются только первые шаги. Так ли трудна дешифровка? Когда Жан Франсуа Шампольон в первой половине XIX века дешифровал египетские иероглифы, его научный подвиг казался чудом. В наши дни существует специальная наука о шифровании и дешифровке – криптография. Имеются и десятки военных НИИ во всём мире, занимающиеся проблемами шифрования и дешифровки. Казалось бы, если их подключить к проблемам нечитаемости или недешифруемости некоторых текстов, то проблемы будут решены за пару десятков лет. Этого, однако, не произошло, хотя я подозреваю, что такого рода работа в ряде стран была проделана. Более того, за XIX век, когда никаких НИИ криптографии ещё не существовало, было дешифровано гораздо больше письменностей, чем в ХХ веке. Очень трудно отделаться от мысли, что существование весьма малого коллектива профессиональных эпиграфистов в мире, отсутствие кафедр по их подготовке, публикация результатов их деятельности во второстепенных научных работах, а также отсутствие у них интереса к сотрудничеству с военными дешифровщиками, – всё это звенья одной цепи: боязни найти единую письменность и единый язык Европы. Иными словами, эпиграфисты – это не столько аналитики, сколько часовые, не допускающие энтузиастов к кладовым мировой истории. Но чем страшит подобное открытие? Да только одним: оно тут же разрушит всю историографию Европы (а, следовательно, и всего мира), столь упорно и медленно сложенную на основе специально подобранных и отредактированных нарративных источников. Это будет смерч, сметающий на своём пути все воздвигнутые препоны. Как наказывают ослушников. Итак, по Томасу Куну, если член научного сообщества выходит за господствующую парадигму, его изгоняют из научного сообщества. Было ли такое в истории поисков новой письменности Европы? Было. Поскольку с точки зрения ряда наук, в том числе топонимики и историографии, в ряде мест Германии до немцев существовали славянские поселения, совершенно естественно было бы предположить, что и наиболее древняя письменность Европы пошла из России. Так предполагали некоторые исследователи, однако германские учёные были против. Задачей немецких учёных было показать, что, как русские, так и славяне никогда не имели ничего самобытного. Поэтому находки фигурок славянских богов в Прильвице, где славяне пользовались германскими рунами, была удачей именно для германской, а не славянской точки зрения. Иными словами, раннее славянское письмо было германским. Лишь один Якоб Гримм нашёл, что в этом германском письме имеются некоторые малозаметные отличия, так что, данную разновидность его можно назвать «славянскими рунами». Однако хорват Ватрослав Ягич всю жизнь посвятил доказательству того, что никаких особых отличий у этого германского письма на службе славян не было. Но Х. Френ обнаружил русскую надпись в арабской рукописи эль Недима; тотчас датский исследователь Финн Магнусен постарался показать, что она начертана немецкими рунами. Правда, его чтение было довольно корявым, и А. Шегрен постарался это чтение улучшить. Так что, ни о какой самобытности русского письма речь не шла. Русский археолог Городцов, раскапывая село Алеканово Рязанской губернии, нашёл надпись на горшке, и после годовых колебаний признал в ней «литеры древнего славянского письма». Но Городцов не был эпиграфистом; на его единичное сообщение больше не ссылался ни один исследователь. А украинский археолог Викентий Хвойка, обнаруживший не только Трипольскую археологическую культуру, но и надписи на сосуде, которые он аттестовал, как славянские, позже был назван коллегами из Москвы «дилетантом». Дилетантом современные археологи считают и дореволюционного археолога из Киева Карла Болсуновского, который пытался разложить монограммы русских князей на отдельные буквы. Правда, эти исследователи принадлежали к ушедшему поколению, так что, наказать их более серьёзно было физически невозможно. Как видим, если в конце XIX века наказание выглядело, как замалчивание, то в первой половине ХХ – уже как публичное осуждение. Но с середины ХХ века наказание усилилось. Так, ленинградец Николай Андреевич Константинов, попытавшийся дешифровать «приднепровские знаки», под нажимом «совести нации» – академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва – вынужден был закончить свою профессиональную деятельность в этом направлении в результате продуманной и организованной критики, в том числе и от иностранных учёных. В Казахстане выискался свой исследователь древней письменности, на этот раз пратюркской – Олжас Сулейменов, казахский писатель. В книге «АЗ и Я» он попытался показать, что тюркское письмо является одним из древнейших. За это ему грозило исключение из КПСС (а это – «волчий билет», не позволяющий в дальнейшем заниматься никаким видом творческой деятельности). От столь сурового наказания его спасло только вмешательство первого секретаря Казахстана того времени, Кунаева. Как видим, теперь речь уже шла не о нелестной оценке, а о невозможности оставаться в своей профессии. За рубежом преследования были не легче. В Югославии при Иосифе Броз Тито вынужден был эмигрировать в Италию сербский исследователь Радивое Пешич. Он был профессиональным эпиграфистом, этрускологом, однако нашёл новый тип письменности в славянской культуре Винча, относящейся к неолиту. Именно за находку нового вида славянского письма (хотя им и не дешифрованного) он вынужден был проститься с родиной. Да и в нынешней Сербии, после его смерти, отношение к его памяти далеко не лучшее. Но самым вопиющим фактом этого рода можно считать самоубийство молодого эпиграфиста из Москвы Н.В. Энговатова. В разгар хрущёвской оттепели он позволил себе не только поиски древней славянской письменности, но и сообщение о своих результатах в общественно-политической печати, журнале «Огонёк», ряде газет и еженедельников. И, хотя он находился ещё на дальних подступах к решению поставленной задачи, в него выстрелили из научного орудия главного калибра: в журнале «Советская археология» № 4 за 1960 год была опубликована статья двух академиков АН СССР: Б.А. Рыбакова и В.Л. Янина «О так называемых “открытиях” Н.В. Энговатова». Специалистов более высокого ранга в СССР тогда не было. Статья была для самого Энговатова излишней, ибо его до неё уже «прорабатывали» не только в родном ему Институте археологии, но и в Институте русского языка. Так что, эта публикация была нужна не столько для него (с ним всё было ясно: через некоторое время он будет отчислен из НИИ и больше, как учёный, нигде не сможет трудоустроиться), сколько в назидание другим «ищущим». И молодой учёный не выдержал. Осознав, что для него теперь закрыты все пути в науку, он застрелился из охотничьего ружья. Та же мысль о недопустимости поисков древнего славянского письма, например, «прапольской азбуки», была повторена Б.А. Рыбаковым и с трибун 5-го Международного конгресса славистов. Так что, искать древнюю славянскую письменность было на законных основаниях просто невозможно. Замечу, что контроль за учёными академического НИИ был несложен, ибо лиц, желающих из праздной любви к древней славянской письменности сломать свою научную карьеру, находилось совершенно ничтожное число, какие-то единицы не только в СССР, но и во всём лагере социализма. Что же касалось других энтузиастов, то они, в силу незнания многих тонкостей эпиграфики, совершали свои первые ошибки и, после публикации своих несовершенных результатов, были вполне открыты для любой научной критики. Впрочем, эти результаты (например, И.А. Фигуровского) были столь плачевны (чего стоит, например, прочтение им на пряслице слова СВЧЖЕНЬ вместо КНЯЖЕНЬ), что понимались как неудачные уже на уровне здравого смысла, так что, вмешательства научной критики тут и не требовалось. Противоречие со здравым смыслом. Если изучать наказания эпиграфистов в СССР и странах социализма отдельно от общемировой истории дешифровки, то можно вроде бы найти извиняющие мотивы. Ну, например: борьба научных школ. Скажем, академическая наука считала, что никакой древней славянской письменности нет и быть не может, тогда, как энтузиасты ей нарочно противоречили. И поплатились за свою строптивость. На это можно возразить, что борьба научных школ никогда не доходила до объявления противника дилетантом или до его лишения права заниматься научной деятельностью. Так, например, когда узнали, что физик, профессор Больцман преподаёт студентам «крамольные» уравнения Максвелла, его могли уволить с должности профессора. Правда, увидев на своей лекции комиссию и догадавшись о реальной цели её присутствия, Больцман всю свою лекцию посвятил выяснению физического смысла некой постоянной величины, названной его именем. Тем самым, оснований для увольнения учёного не нашлось. Но даже если бы его и уволили, десятки университетов сочли бы за честь принять его в свои ряды. Так что, максимальное наказание – просто перемена места работы (возможно, даже с повышением). Другой возможный мотив: поиски пратюркского или праславянского письма льют воду на мельницу пантюркизма или панславизма. Так что, это ведёт к национализму. На это можно возразить, что дешифровка Майклом Вентрисом линейного письма Б привела к чтению примерно на 500 лет более древних греческих текстов, но это никак не повлекло за собой никакого «панэллинизма». Точно так же изучение древнееврейского письма на иврите вовсе не приравнивается к сионизму. Было бы странно, если бы кого-то лишили права преподавания или права заниматься исследованием истории на том основании, что он овладел чтением линейного письма Б. Напротив, поощрили бы. Вообще, когда мы знакомимся с историей дешифровок древних письмен других народов, мы видим, что все дешифровщики окружены аурой того, что они занимаются общественно важным делом, а их достижения – шаги в культурном развитии человечества. Любые писатели, исследующие их творчество, предлагают почтить их деятельность, проникнуться трудностями процесса дешифровки, насладиться полученным результатом, и понять, как далеко шагнула наука после того, как стала читать древние тексты. Ими восхищаются, их ставят в пример, им посвящают статьи, книги и конференции. У нас же, как мы видели, им создают невыносимые условия существования ещё на дальних подступах к дешифровке. Трудно себе представить, как бы их наказали, если бы они успели завершить свои исследования до публичного осуждения. Их что – сослали бы на каторгу, посадили бы в тюрьму или, не долго размышляя, просто бы расстреляли? Почему же в одном случае – слава и почёт, а в другом – исключение из партии, высылка в другую страну или доведение до суицида? Ответ прост: потому, что все другие эпиграфисты дешифровывали второстепенные системы письма. Следовательно, славянское, русское древнее письмо и есть то самое главное, самое важное для историографии Европы и всего мира, до чего никому из эпиграфистов, под страхом смерти, нельзя дотрагиваться. Изменения в материально-технической базе в конце ХХ века. В принципе, чтение незнакомой письменности вполне родственно чтению чертежей, анатомических атласов, иностранных тексов, математических формул. Любой человек, занимающийся каким-то из перечисленных видов деятельности, вполне мог бы стать дешифровщиком. Как им стал Майкл Вентрис, архитектор, привыкший к чтению чертежей здания. Конечно, степень абстрактности в каждом случае различна. Анатомия человека или животных всё-таки не слишком абстрактна; гораздо абстрактнее чертежи здания. Но ещё более абстрактны слова чужих языков. Правда, чтобы их понять, достаточно заглянуть в словарь. А вот в математические формулы необходимо вникать и очень глубоко. Из этих несложных рассуждений следует, что для роли дешифровщиков более всего подходят лица с физико-математическим образованием. А их в России конца ХХ века оказалось весьма много. Другая сторона проблемы – развитие вычислительной техники. В 70-е годы ХХ века появляется персональный компьютер, в середине 90-х они оказываются в квартире каждого интеллигента России. Казалось бы, какое отношение имеет компьютер к проблемам дешифровки древней русской письменности? Оказывается, самое непосредственное. Дело в том, что при работе с текстами на различных материалах, важную роль играют чисто вспомогательные операции – увеличение изображения, повышение контрастности, копирование фрагментов, переход от позитивной к негативной картине, транскрипция, транслитерация и передача слова разными шрифтами. Всё это великолепно можно произвести на компьютере. Опять-таки понятно, что лица с физико-математическим образованием овладевают различными операциями на компьютере быстрее, чем историки. Теперь уже никакие запреты не могли сдержать натиск новых исследовательских кадров. К тому же, на представителей других профессий запрет для эпиграфистов и археологов не распространялся, ведь их представители о нём даже не подозревали. Кроме того, если археологов в стране несколько десятков (а эпиграфистов – вообще несколько человек), и потеря работы для них означает потерю средств к существованию, то для многих новых исследователей эпиграфика оказалась хобби, а их профессия никакого отношения к истории не имела и потому выгнать их с работы по профессиональной линии было просто не за что. Никакому заведующему отделом кадров естественнонаучного НИИ невозможно вразумительно объяснить, почему исследование древнего славянского письма должно как-то негативно сказаться на судьбе физика или математика. А в качестве сферы приложения естествознания, историческая наука представляет собой настоящий Клондайк. Начало научной революции в историографии. Научная революция в историографии уже началась, хотя первые её фазы прошли незаметно для общества. Математика начинается там, где можно что-то подсчитать, а в историографии это – хронология. Первым заподозрил нечто ужасное в хронологии сэр Исаак Ньютон. Однако в его время подобные работы сочли причудами гения и не придали им значения. В России работами по хронологии занимался народоволец Николай Морозов, который, анализируя многие источники, пришёл к выводу, что Иисус Христос родился и жил много позже общепринятого срока, примерно лет на 400. И, хотя его многотомное издание увидело свет после революции, историческая наука его не приняла; она его даже не заметила. Гораздо сильнее оказалось воздействие доктора физико-математических наук, академика РАН, заведующего кафедрой статистической математики МГУ Анатолия Тимофеевича Фоменко. Как известно, теория вероятностей и статистический подход в наши дни пронизывают не только физику, они проникли во все естественные науки и очень неплохо обосновались и в экономике, и в психологии, и в лингвистике. Но вот с историографией ничего хорошего не получилось – попытки применить там статистические методы привели к странному результату: события, рассчитанные этими методами, должны были произойти совсем в другое время, чем утверждает историография. Может ли в науке оказаться так, что применение какого-то метода везде приводит к надлежащему результату, а в какой-то одной области – нет? Полагаю, что может, если у этой области действительно есть какие-то большие особенности. Скажем, на автомобиле можно хорошо катить по гладкой дороге, но если встретятся большие ямы – или, напротив, высокие препятствия, автомобиль через них не пройдёт. В своё время философы-неокантианцы пытались доказать, что в то время, как все остальные науки изучают нечто повторяющееся, историография, напротив, изучает нечто единичное, изолированное во времени. У них, однако, нормального доказательства такого странного предположения не получилось. А если так, к историографии вполне возможно приложить и теорию вероятности, и математическую статистику. А.Т. Фоменко и приложил. И получил любопытный вывод: последние примерно 300 лет и хронологии, и описанию событий в истории в целом доверять можно. А вот в более ранние периоды – уже нельзя. Там очень многое перепутано и в пространстве, и во времени. Одна из его книг так и называется: «Античность – это средневековье». Иными словами, то, что мы сейчас называем античностью, было создано в позднем Средневековье, или в эпоху Возрождения. Но если бы эта путаница возникла от трудностей создания хронологии, или от незнания некоторых эпизодов всемирной истории, она была бы понятна, и её легко было бы преодолеть, расставив всё по своим местам. Но, как оказалось, путаница возникла совсем не из-за того, а из-за желания Западной Европы скрыть существование в относительно недавние времена всемирного государства с русским языком и культурой, которое этот исследователь назвал «Империей». Так что, всякая попытка распутать хитросплетения историографии неизбежно выталкивают на поверхность существование русской цивилизации. Далее он отошёл от чисто математического подхода, понятного только небольшой группе специалистов. Он показал, что имеется масса несоответствий между данными историографии и наличием церквей, их убранства, персонажей в них, содержанием икон, картин, литературных произведений и т.д., которые показывают, что данные произведения искусств были созданы совсем в другое время. Так, например, он публикует фотографию картины, на которой древнеримский поэт Вергилий изображён в очках, хотя очки были изобретены только в средние века и неизвестны в античности. Слепой Гомер подробнейшим образом описывает щит Ахиллеса, как будто видит его, хотя он слеп, а их разделяет не менее трёх веков. И это притом, что воинов античности мало интересовали детали убранства щита – для них гораздо важнее была его прочность. И таких несуразностей обнаружено великое множество. Начало научной революции в эпиграфике. Обнаружение нестыковок и исторических лакун – это серьёзный удар по современной историографии, но не смертельный. Гораздо опаснее обнаружение древнейшей славянской письменности – руницы. И опять-таки, не само её обнаружение, а полученный с её помощью материал. Ведь значение письменности можно уподобить значению наиболее мощного средства передачи информации. Как мы видели, археологи могут десятилетиями и даже веками решать проблему этнической принадлежности той или иной культуры. Наличие письменных ремарок на археологических находках позволяет не только произвести атрибуцию этнической принадлежности находки, но и понять содержимое вещи, а часто – и её назначение. А оно оказывается совсем не тем, что нам предлагали историки. Возьмём, например, частный вопрос – проблему Русского каганата. Одно дело вести веками полемику по вопросу, какие русские находились в этом каганате: славяне или какие-то другие, например, аланы или хазары. Каганат, по современным данным, на пару веков был старше Киевской Руси. Он даже чеканил свои монеты с арабской вязью. И совсем другое, – читать на монете, стилизованной под арабскую вязь, надпись на русском языке, выполненную руницей: «алтын – золотая русская монета. Русский каганат Москва». Одной этой надписью снимаются все вопросы: русские из каганата говорили по-русски, а столицей у них был город Москва, даже если этот город и помещался в другом месте, чем Москва нынешняя. Но Русь в виде Русского каганата существовала и до Киевской Руси. Ещё более сильный удар наносит возможность читать этрусские надписи, как в их этрусской, так и в их русской частях. Из этих надписей следует, что Москва существовала не только до Рима, но именно по её приказу этруски воздвигли этот город, назвав его в духе русских традиций (например, Владимир – «владей миром») Миром. Другое дело, что слово Мир, написанное в русской традиции, согласно этрусским правилам следовало читать в обратном направлении, и он стал вычитываться, как Рим. В Риме, созданном этрусками, для которых родным был русский язык, а неким солдатским жаргоном – язык этрусский, – следовательно, довольно долго звучала русская речь. И лишь много позже, когда в Рим стали переселяться латины, они, говоря по-русски, исказили его, приспособив под свою фонетику и грамматику. Но этот факт никак не отменяет вытекающую отсюда совершенно иную историографическую парадигму: основное большинство европейских народов приходило на Русь, которая занимала всю Северную Евразию, и училась у неё и русской культуре, и русскому языку. Так что, начинать и историю Европы, и историю Северной Евразии, и историю мира следует с истории русского народа, с его языка и культуры. Это потом к нам пришли семиты, а далее – эллины, кельты, латины, германцы, балты и т.д. Такой станет парадигма мирового развития после того, как свершится научная революция в области эпиграфики и историографии. Но может ли научная революция остановится? Нет, не может. Уже сейчас мы имеем возможность читать и понимать надписи палеолита, мезолита, неолита, эпохи бронзы, которые сообщают нам такие подробности, которые не сохранились ни в одном античном источнике. Следовательно, уже в наши дни дешифрованная русская письменность руница и особым образом вписанная в рисунки протокириллица, дают новой парадигме такие факты, которых не знает классическая парадигма. Но главное состоит не в частностях, а в ином понимании общего хода исторического процесса. Теперь мы понимаем назначение и отдельных священных камней, и колоссальных мегалитических сооружений типа Стоунхенджа. Древние камни и древние святилища начинают открывать повсеместно – а классическая археология так и не поняла цели их постройки. С позиций новой парадигмы достаточно много информации можно получить и при анализе обычного ремесленного изделия – его название (на русском языке), фамилию (а иногда и имя-отчество) мастера, город и сакральное название местности. Отсюда можно понять, местное данное изделие, или привозное. Короче говоря, письменная информация теперь может быть снята с любой древней вещи, а не с крайне редких изделий, как полагает классическая эпиграфика. Естественно, что теперь очень многие археологические культуры раскроют нам имена своих этносов; в других же случаях окажется, что новая культура означает просто новую моду или приоритет новых ценностей у старого этноса. И доселе «немая» археологическая культура вдруг заговорит с людьми весьма понятными нам русскими словами. Признает ли результаты научной революции Запад? Разумеется, признает. Когда-то США в космической гонке с СССР старались превзойти нашу страну по любому показателю. Однако теперь мы сочли, что режим сотрудничества намного более выгоден обеим странам. То же самое и с историографией. Если США истребляли в своё время индейцев и завозили рабов из Африки, так ведь это приходится признать, хотя это и не очень приятно. Однако, без этих неприятных фактов история данной страны оказывается непонятной. Точно так же, если Европа начнёт обнаруживать у себя следы русской цивилизации и научится читать русские тексты на археологических памятниках, то узнает многие подробности собственной истории – с русским происхождением её культуры тоже ничего не поделаешь, что было, то было. При современных методах коммуникации ни опорочить, ни замолчать факт русского приоритета при всём желании нельзя. В своё время США признали факт своего поражения во вьетнамской войне, некоторое время их руководство привыкало к данному неприятному факту, и, осознав его, двинулось дальше. Европа, поняв абсурдность неприятия всех следов пребывания русской культуры на своей теперешней территории, поймёт, что она тоже на определённый процент – русская, и, пережив этот факт, сможет развивать свою историографию до новых высот. Горькая правда лучше многовековой лжи – особенно теперь, когда результаты археологических раскопок и надписей на них утаить никак нельзя. Период фальсификаций исторических документов и запрятывания подлинников по монастырским спецхранам кончился. Уже найденный и опубликованный археологический материал в своей совокупности содержит столько исторической информации, что перекрывает лакуны, вызванные изъятием из общественного употребления подлинных памятников. И эту открытую информацию может в наши дни получить любой пользователь Интернета, умеющий читать русскую руницу и протокириллицу. Тем самым необходимость в засекречивании оригиналов отпадает. По предсказаниям многих прорицателей, Россия в конце XXI века должна выйти на первое место в мире по основным показателям. Можно надеяться, что и по переходу к новой парадигме мирового исторического процесса. Если речь идёт о движении в сторону глобализации, то Россия как раз и представляет собой живой и здравствующий остаток всемирной культуры, когда, по крайне мере, в Северной Евразии от Британии до Аляски, люди говорили по-русски, писали рунами Макоши и Рода и поклонялись русским богам. И на этом признании научная революция в области историографии, археологии и эпиграфике завершится, дав начало совершенно иному пониманию процесса развития мировой цивилизации. В.А. Чудинов, «Канун научной революции в области историографии» // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.13640, 08.08.2006 |
Главная : Выборы : Зарубки : О сайте : Новости : Хронология : Книги : Объявления : Публикации : Ссылки
|